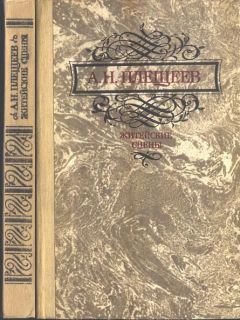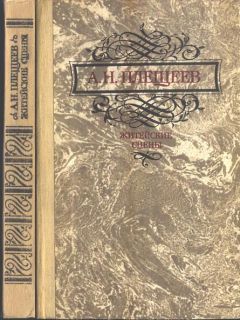Суждения Костина и неумение его приноравливаться к обществу, с которым он имел дело, сильно начинали вредить ему. Прасковья Петровна даже просила Григория Модестовича намылить своему чиновнику голову и запретить ему выражаться так резко, что и было исполнено губернатором, хотя не совсем удачно. Костин, озадаченный его величавым и туманным приступом к головомойке, слушал сначала молча и внимательно; но потом, когда речь коснулась дорогих убеждений молодого человека, он стал возражать, и так загонял несчастного Григория Модестовича, что тот решительно не находил, что отвечать, и, раскрасневшись, как рак, отпустил его, сказав весьма жалобным тоном: «Вы на меня не сердитесь, молодой человек; я желаю вам искренно добра… Вы увлекаетесь… вы… я знаю… вы образованны, умны и основательно поймете меня… Оцените мое расположение… Ступайте с богом». Почтенный сановник совсем запутался в своем красноречии и был радехонек, что Костин наконец убрался.
Кроме этой распеканки, следствием неосторожности Костина было и то еще, что ему, как свободомыслящему человеку и, следовательно, принадлежащему к беспокойным и недовольным, не хотели давать никакого серьезного поручения; и занятия его ограничивались составлением каких-то ничтожных докладов под руководством правителя канцелярии. Хотя и представлялись раза два следственные дела, но правитель каждый раз настаивал, чтобы производство их возложить на других чиновников. Он боялся, что Костин станет рассуждать и поведет следствие не так, как нужно… то есть не так, как требуют того интересы Василия Кузьмича.
Такое положение было крайне неприятно для Костина, приехавшего в Мутноводск с намерением действительно служить, то есть делать дело, а не числиться да являться на губернских вечерах. Всюду встречал он какие-то кислые мины; все сторонились от него, жались и оглядывались, когда он заговаривал с ними, как будто боясь, чтобы высшее начальство не заподозрило их в дружеских отношениях с беспокойным человеком, бог знает что проповедующим и не уважающим мнения старцев, убеленных сединою и умудренных опытом. Попадались в Мутноводске и такие господа, которых можно было считать барометрами, показывающими степень расположения или гнева начальнического к каждому служащему лицу… Если подобный господин заискивал вас, жал вам руку, осыпал вас при встрече всякого рода любезностями, то это было верным признаком, что начальство благоволит к вам. Если же, напротив, он отворачивался от вас и сухо отвечал на вопросы ваши,— значило, что начальство недовольно вами. И какое-то собачье чутье было у этих господ! Еще никто не знал об отношениях к вам начальства, а они уже пронюхивали эти отношения… Прислушиваться, выпытывать, приглядываться к выражению начальнической физиономии, уловлять по ней игру теней и света составляло их специальность, которой они предавались с любовью, со страстью, с увлечением всем существом своим… Они никогда не боялись смены властей, уверенные в своем искусстве жить, исполненные благородного сознания своих сил… Вот начальнику изменило счастье, и его отзывают: эти господа отворачиваются от него первые, они даже готовы сделать ему оскорбление, если представится случай. Снисходительность и сожаление, пробуждающиеся в каждом порядочном человеке при падении власти, если даже он имел причину быть ей недоволен, когда она была могущественна — незнакомы для таких личностей… Является другой начальник, и посмотрите: они уже пресмыкаются перед ним, рассыпаются мелким бесом,— их спины гнутся, уста улыбаются… И что всего страннее, они продолжают пользоваться расположением — не только новой власти, которая всегда, к несчастью, несколько доступна лести, да и не имела времени еще хорошенько их разгадать, но и всех членов общества, видящих их насквозь…
Костину сделалось так скучно, так противно смотреть на весь этот театр марионеток,— коверкающихся, скучающих, вертящихся колесом и кувыркающихся по воле антрепренеров, дергающих за кулисами ниточки,— что он опять засел дома и принялся за книги.
Однажды вечером он зашел к почтмейстеру, страдавшему какой-то хронической болезнью и потому никуда почти не выезжавшему. Костин время от времени навещал больного и одинокого старика и давал ему читать книги. Почтмейстер был человек честный, хотя воспитанный в старых понятиях и мало образованный. Он отличался от прочих мутноводских старцев тем, что не смотрел на молодое поколение враждебно и не порицал нововведений. Он всегда радовался приходу Костина и тем более привязался к нему, что это был единственный из молодых людей, не скучавший в его обществе.
— А, Виктор Иваныч, милости просим,— обратился к входившему гостю почтмейстер.— Вот доброе дело сделали, что пришли к старику поскучать; а вам же, кстати, кое-какие журналы присланы. Один-то я, с вашего позволения, распечатал и читаю.
— Сделайте милость, Трофим Степаныч. У меня есть пока что читать… Ну, что нового пишут?
— Да вот об откупах статейка… Говорят, что откупа больше одного четырехлетия существовать не будет. Дай-то бог, дай-то бог… Пора, пора этому злу конец положить… Помоги господь нашему правительству. Уж как народ-то бедный за это его благословит. И врут те, которые говорят, что когда вино и дешевле, и лучше будет, так наш народ еще больше пьянствовать будет. Не знают они и не любят русского мужика… Вот я около него довольно на своем веку потерся, и имениями управлял, и исправником был… Эх! кабы не старость моя да не болезнь! А знаете, Виктор Иваныч, имей я литературный слог, я бы об этом предмете мог статеечку тиснуть… Иногда просто так руки и зудят, как прочтешь какие-нибудь этакие лжеумствования. Да не имею слога…
— Что ж, напишите, Трофим Степаныч, слог-то вместе поправим. Тут ведь не в слоге дело…
— Ну да… есть, я думаю, вам время чужое маранье исправлять… Чай, и без того работы много; вам, я слышал, думу ревизовать поручили…
— Это дело я кончил. Нет, добрейший Трофим Степаныч, мне, напротив, никакой работы не дают.
— Что так! Али уж все так устроено, что и делать нечего? Губерния-то не маленькая, кажись… Я сколько дел знаю, которые бог весть с которых пор вперед не подвигаются, и все оттого, что никому приняться за них путем не хочется. Вот и застряли; за справками, мол, вся остановка…
— Не по́ сердцу я начальству здешнему, Трофим Степаныч: серьезного ничего не поручают. Неспособным, что ли, считают или другие причины какие есть, только это так. Я часто себя спрашиваю: неужели вся моя деятельность здесь должна ограничиться разглагольствованиями о вреде взяточничества или тому подобных вещах, о которых бы давно пора перестать спорить?
— Эх, Виктор Иваныч,— молоды вы, батюшка мой, горячи больно. Вот это разглагольствование-то всему причиной и есть… Слышал я, как намедни у председателя казенной палаты директору гимназии да прокурору конфект поднесли… Переуверили вы их, что ли? Нет, уж от этих людей ждать нечего!.. Надо подождать, пока просвещение разольется да новых людей подготовит побольше… А вот они вам при случае и напакостят…
— Все это правда, Трофим Степаныч, да что же мне делать? Нельзя же равнодушно слушать, когда такие вещи проповедуют… Поневоле из себя выйдешь. Надо рыбью кровь иметь. Понимаю, что ребячество — горячиться с таким народом; да не совладаешь с собой… так и подмывает тебя вмешаться в разговор.
— Нужно себя обуздать маленечко. Как быть-то… свет на хитрости держится. Потакать, конечно, не следует; а махнуть рукой, да свое дело делать…
— А вы думаете, что если бы я махнул рукой, это бы к чему-нибудь повело?..
— И очень бы повело.
— Ну, дали бы мне дело, в надежде, что я поведу его, как им хочется… а потом увидали бы, что они во мне ошиблись, и уж в другой раз бы мне не дали.
— Зато хоть раз бы да что-нибудь сделали, а теперь и этого не удастся… А может быть, дельце такое попалось, что и осчастливить могли иного… слабого защитить… Эх, Виктор Иваныч! Да если и раз-то в жизни господь бог сподобит какое ни на есть добро ближнему оказать, так за это нужно быть благодарным — вот что-с… Вы человек хороший, доброжелательный, стало быть, вы должны это в рассуждение взять.
— Оно так, Трофим Степаныч, да хитрить-то я не мастер. Что же мне делать с собой!..
— Вот то-то и беда. Вам бы все хотелось, чтобы рукой достать можно было. Спросили бы вы меня, с какими я зверями дело имел, да с божьей помощью одолевал и их… Бывало, раз ничего не сделаешь, другой раз ничего; и горько, да как быть… ну, а на третий-то раз и сделают… Нет, напролом-то идти — ничего не возьмешь: где волчий рот, а где лисий хвост… Уж кто себя добрым делам обрек да цель себе какую в виду поставил, так уж и держись ее… Коли нельзя к ней большой дорогой подойти, обойди проселками — оно, может, не так скоро, да споро выйдет.
— Вы считаете, стало быть, всякие средства позволительными, лишь бы достичь цели?