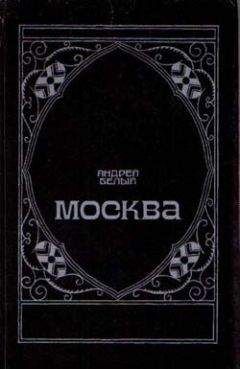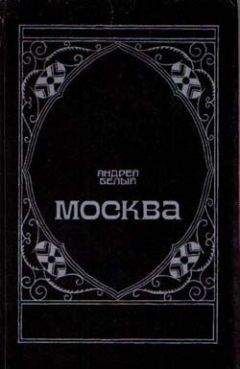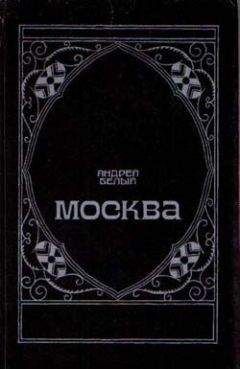Тут стал издавать дурной запах: тот запах был запахе крови.
В испуге Мандро привскочил, потому что представилось если открытия он не добьется, то он — здесь захлопнут, как крыса.
— Вы знаете ли, что такое есть жжение? И жестяною рукою схватил, как клещами:
— Свеча жжет бумагу, клопов: жжет и глаз! Быть же тому — ужасно!
Закапы руки и закопты руки стеарином: пахнуло на руку отчетливым жогом; к руке прикоснулось жегло.
— О!
Не выдержал.
— О!
Детским глазом не то угрожал, а не то умолял: и казалось — хотел приласкаться (с ума он сошел)!
Тут в мозгу истязателя вспыхнуло:
«Стал жегуном!»
Но он вместо того, чтобы свечку отбросить — жигнул; и расплакался, бросивши лоб в жестяные какие-то руки. И комната вновь огласилася ревом двух тел; один плакал от боли в руке испузыренной; плакал другой от того, что он делал.
Огромною грязною тряпкой заклепан был рот.
Со свечою он кинулся к глазу; разъяв двумя пальцами глаз, он увидел не глаз, а глазковое образование; в «пунктик», оскалившись, в ужасе горько рыдая, со свечкой полез.
У профессора вспыхнул затоп ярко-красного света, в котором увиделся контур — разъятие черное (пламя свечное); и — жог, кол и влип охватили зрачок, громко лопнувший; чувствовалось разрывание мозга; на щечный опух стеклянистая вылилась жидкость.
Так делают, кокая яйцы, глазунью-яичницу.
Связанный, с кресла свисал — одноглазый, безгласый, безмозглый; стояла оплывшая свечка; единственным глазом он видел свою расклокастую тень на стене с очертанием — все еще — носа и губ; вместо носа и губ — только дерг и разнос во все стороны; тыква — не нос; не губа, а — кулак; вместо глаза пузырь обожженного века; на месте, где ноготь. раздробленный, — бухло, рвалось, тяжелело.
Как будто копыто, — не ноготь — висело.
Жегун побежал — вниз; «татататата» — каблуками, по лестнице; слышалось, как тихо вскрикнули ящики; письменный стол был разломан
* * *
Прошли сотни, тысячи лет с той поры, как в пещерной продолбине произошла эта встреча: гориллы с гиббоном; висел затемнелой своей головою с запеками крови, пропузясь; и — мучился немо зубами раскрытый, заклепанный рот.
И казалось, что он перманентно давился заглотанной тряпкою — грязной и пыльной.
Оса, всадив жало, готовится к смерти.
С последним движением пламени вытекла сила; шатался от слабости, чувствуя — все в нем смерзается от нехорошего холода; точно с разорванным сам разорвался и выкинулся из пространства земного.
За окнами — пусто, мертво, очень сонно, бессмысленно.
Лишь по инерции что-то вытаскивал он из развала бумаг — в кабинете, над сломанным ящиком, цель этих действий стараясь припомнить; но памяти — не было: был след «чего-то»; до «этого» — жизнь чья-то длилась; а — после? Стояние — здесь, над развалом?
«Что делаю?»
Вспомнилось: люди, платформа, носильщики, белые фартуки, бляха; — номер двадцатый на ней; с кем-то ехал:
«Куда?»
Холодея от ужаса, знал, что случилося невероятное: только в остатке сознания этого было сознание, что он со-, знанье утратил.
Припомнилось: кто-то живет — наверху, кто сумеет напомнить; и стал он разыскивать верх, чтоб понять, кто живет наверху, следы крови; наткнулся на лесенку; одолевая огромную тяжесть (не слушалися ноги), он влез, чтобы вспомнить кровавое парево с глазом закрывшимся; кто то, свернувши на сторону рожу, привязанный к креслу, висел, разодравши свой рот и оскалясь зубами, как в крике; но крик — был немой; вместо крика торчал изо рта кусок тряпки.
Кричал своей тряпкою кто-то — в пустой потолок.
* * *
Стал развязывать ноги; сапог — окровавленный.
Думалось:
«Сколько он крови раздрызгал!»
На ноги поставил.
— Пойдем.
Кто-то, вздернувши рыло, испоротое вплоть до уха, — молчал.
— Хочешь?
— Ты — победил!
Кто-то в столб соляной превратился, в Содомы вперяясь, оскаленный, красноголовый — во веки веков; было ясно, что стал идиотом.
И вот сумасшедший повел идиота; и за сумасшедшим пошел идиот: в кабинет, сумасшедший показывал пальцем на стол, где взломались два ящика:
— Что это значит, — скажи?
Идиот, увидавши на столике нониус собственный, вспомнил про боли, которым подвергся он; вспомнив про боли, подпрыгивать стал он на месте, бодаясь махрами и тряпкой по рту, точно пятки ему прижигали; увидев балет этот адский, горилла стоявшая — пала в бессилии, точно собака пробитая: под каблуками.
Быть может, мгновение длилось все это; быть может, тут длились часы; эту пляску увидел портной из окошка.
* * *
И вот он поднялся.
Скакавшее тело пошло чрез открытую дверь, повинуясь инстинкту животного околевающего, — из столовой в квадратец белевшего садика, чтоб умереть вблизи ямы, где Томочку-песика похоронили зимой; сумасшедший пошел, повинуясь инстинкту, спасаться — в переднюю (сонно спасался!); открывши наружную дверь, он хотел сесть на тумбу, — тупой, окровавленный; под подбородком болтался клочок приставной бороды; из чернильных настоев рождался денек синеватый; и ширилась из-за забора заря уже.
Вскрикнули!
Сонно пошел переулком пустым; завернул в Гнилозубов второй, где и был схвачен он.
Вишняков с Кавалькасом приблизились к дому: темно; прилипали к прощелку:
— Вот здесь, милый мой, он махрами мотал!
Но ничего не моталось вихрами; стоял лишь догарок свечи в разворохе бумажек; был сумерок.
Грибиков, дергаясь, следом тащился за ними, — без шапки, рукою схватяся за ворот, и грудь защищал от ветра колодного:
— Да!
— Любопытно!
По синему неба летели раздымки.
Они не решились звониться: на дворик прошли; и — уперлись в забор; посмотрели в заборную трещину:
— Дверь!
— Посмотрите!
— Открыта!
И дверь — беспокоила.
Карлик хотел было дать стрекача, а портной, захватившись руками за верх (здесь обломаны были железные зубья), кряхтя и виляя горбом, кое-как перелез над забором; пошел на терраску.
— Идите сюда, — очень строго он бросил.
— Весьма любопытно, — и Грибиков крадучись, — под подворотню: за ними; и — видел: они перемахивали над забором:
— Поймают с поличным!
— Наука!
— Не суйся!
* * *
Вот оба стояли пред входом в столовую; видели там алебастровый столбик, часы под стеклянным, сквозным полушарием, стулья, буфет; было странно, что стул перевернут; заря на серебряно-серых обоях — светлела:
— Смотрите-ка!
— Что?
— На обоях!
На ясном куске — отпечаток руки: пять коричнево-красных пятна — пяти пальцев:
— Кровь!
Оба — в столовую!
Чьи-то подошвы опять-таки были забрызганы кровью: отчетливо.
* * *
Грибиков видел: из двери профессорской вышла, шатаясь и горбясь, горилла, утратившая человеческий образ, коричневой кровью пропачканная; белый волос, оборвыш, дрожал под ее подбородком.
И Грибиков — вскрикнул.
Горилла пошла переулком; а Грибиков, дергаясь, бегал туда и сюда; и кричал, и стучал:
— Помогите!
— Несчастие!
Выскочили — кое-как, кое в чем:
— Где?
— Куда?
— Кто?
— Второй Гнилозубов.
— Держи!
— Задержали!
Здесь скажем: горилла жила трое суток еще, но без сознанья была; проживала в тюремной больнице она — вне себя, неопознанная!
Собрались под дверью.
И заспанный, тут же чесался Попакин, — с трухой в године; рожа — ком; в кулаке — сорок фунтов; глаза — оловянные; нос — сто лет рос; брылы — студень вари:
— Ты-то что!
— Продежурил!
— Проспал.
— У тебя, брат, под носом — вот что; а ты — что?
— Видно, правильно, что в русском брюхе — сгинет долото!
Что-то силился он доказать; да — петух засел в горло; и там — кукарекал: что нес — невозможно понять.
Кавалькас и портной по кровавому следу прошли коридором; вот он — кабинетик: кисель из бумаг; черно-серый ковер странно скомкан; в углу — груда книг; этажерка упавшая; кокнули черное кресло; без ножки лежало.
Кровь, кровь!
Но два шкафа коричневых, туго набитых тяжелыми и чернокожими книгами, были не тронуты; та же фигурочка шлa черно-желтого там человечка: себя догоняла на фоне зеленых обой, на которых бюст Лейбница гипсовой буклей белел; и на гипсовой букле — кровавое пятнышко.
След вел на лестницу; лужа кровавая капала — все еще — сверху; бежали отсюда к террасе: с террасы, наверное, вынесли труп.
Нo с порога распахнутой двери — назад; потому что, стуча сапожищами, с ямы могильной пошел откопавший себя и к себе возвращавшийся труп.