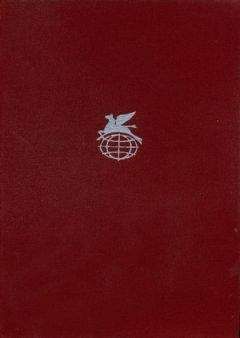— Прочь! Я его сейчас достигну…
Уже двое матросов бросились в воду и саженками плыли к утопавшему, с кормы спускали шлюпку, а среди криков команды, визга женщин спокойной и ровной струйкой растекался сиповатый голос Якова:
— Уто-онет, всё едино утонет, потому — поддёвка на нём! В длинной одежде — обязательно утонешь. Напримерно — бабы, отчего они скорее мужика тонут? От юбок. Баба, как попала в воду, так сейчас и на дно, гирей-пудовкой… Глядите — вот и потонул, я зря не скажу…
Купец действительно потонул, его искали часа два и не нашли. Товарищ его, отрезвев, сидел на корме и, отдуваясь, жалобно бормотал:
— Ну, вот, доехали-и! Как теперь быть, а? Что родным-то скажу, а? Родные у него…
Яков встал перед ним, спрятав руки за спину, и начал утешать:
— Ничего, купец! Никто ведь не знает, где ему заказано помереть. Иной человек поест грибов, да хвать — и помер! Тыщи людей грибы едят на здоровье, а один — на смерть! А — что грибы?
Широкий, крепкий, он жерновом стоял перед купцом и сыпал на него слова, как отруби. Сначала купец молча плакал, отирая слёзы с бороды широкими ладонями, но, прислушавшись, взвыл:
— Леший! Что ты из меня душеньку тянешь? Православные, уберите его, а то — грех будет!
Яков, спокойно отходя, сказал:
— Чудак народ! К нему — с добром, а он — колом…
Иногда кочегар казался мне дурачком, но чаще я думал, что он нарочно притворяется глупым. Мне упрямо хотелось выспросить его о том, как он ходил по земле, что видел, но это плохо удавалось; закидывая голову вверх, чуть приоткрыв медвежьи тёмные глаза, он гладил рукою мшистое свое лицо и тянул, вспоминая:
— Народишку везде, браток, как муравья! И там народ, и тут, — суета, я те скажу! Боле всего, конешно, крестьян, — прямо засыпана земля мужиком, как осенним листом, скажем. Болгаре? Видал болгаров, и греков тоже, а то — сербей, румынцев тоже и всяких цыган, — много их, разных! Какой народ? Да ведь какой же? В городах — городской, в деревнях — деревенской, совсем как у нас. Схожести много. Которые даже говорят по-нашему, только плохо, как, напримерно, татаре али мордва. Греки не могут по-нашему, они лопочут как попало, говорят будто слова, а что к чему — нельзя понять. С ними надо на пальцах говорить. А старичок мой — он прикидывался, что будто и греков понимает, бормочет — карамара да калимера. Хитрый был старичок, здорово калил их!.. Опять ты спрашиваешь — какие? Чудак, какие же люди могут быть? Ну, конешно, чёрные они, и румыне тоже чёрные, это одна вера. Болгаре — тоже чёрные, ну, эти веруют по-нашему. А греки — это вроде турков…
Мне казалось, что он говорит не всё, что знает; есть у него ещё что-то, о чём он не хочет сказать.
По картинам журналов я знал, что столица Греции Афины — древнейший и очень красивый город, но Яков, сомнительно покачивая головой, отвергал Афины.
— Это тебе наврали, браток, Афинов нету, а есть — Афон, только это не город, а гора, и на ней — монастырь. Боле ничего. Называется: святая гора Афон, такие картинки есть, старик торговал ими. Есть город Белгород, стоит на Дунай-реке, вроде Ярославля алибо Нижнего. Города у них неказисты, а вот деревни — другое дело! Бабы тоже, ну, бабы просто до смерти утешны! Из-за одной я чуть не остался там, — как бишь её звали?
Он крепко трёт ладонями слепое лицо, жёсткие волосы тихонько хрустят, в горле у него, глубоко где-то, звучит смех, напоминая бряканье разбитого бубенчика.
— Забывчив человек! А ведь как мы с ней, бывало… Прощалась она — плакала, и я плакал даже, ей-бо-о…
Он со спокойным бесстыдством начинал поучать меня, как нужно обращаться с женщинами.
Мы сидим на корме, тёплая лунная ночь плывёт навстречу нам, луговой берег едва виден за серебряной водою, с горного — мигают жёлтые огни, какие-то звёзды, пленённые землёю. Всё вокруг движется, бессонно трепещет, живёт тихою, но настойчивой жизнью. В милую, грустную тишину падают сиповатые слова:
— Бывало, раскинет руки, распнется…
Рассказ Якова бесстыден, но не противен, в нём нет хвастовства, в нём нет жестокости, а звучит что-то простодушное и немножко печали. Луна в небе тоже бесстыдно гола и так же волнует, заставляя грустить о чём-то. Вспоминается только хорошее, самое лучшее — Королева Марго и незабвенные своею правдой стихи:
Только песне нужна красота,
Красоте же — и песни не надо…
Стряхивая с себя это мечтательное настроение, как лёгкую дремоту, я снова выспрашиваю кочегара об его жизни, о том, что он видел.
— Чудак ты, — говорит он, — чего же тебе сказать? Я всё видел. Спроси: монастыри видел? Видел. А трактиры? Тоже видел. Видел господскую жизнь и мужицкую. Жил сыто, жил и голодно…
Медленно, точно переходя глубокий ручей по зыбкому, опасному мосту, он вспоминает:
— Ну, вот, напримерно, сижу я в части, за конокрадство — будет мне Сибирь, думаю! А квартальный — ругается, печи у него дымят в новом доме. Я говорю: «Это дело я, ваше благородие, могу поправить». Он — на меня: «Молчать! Тут, бает, самолучший мастер ничего не мог…» А я ему: «Случается, что и пастух умнее генерала», — я тогда осмелел очень ко всему, всё едино — впереди Сибирь! Он говорит: «Валяй, ну, говорит, если ещё хуже буде — я те кости в дробь истолку!» В двое суток я ему дело наладил — удивляется квартальный, кричит: «Ах ты, дурак, болван! Ведь ты — мастер, а ты коней крадешь, как это?» Я ему баю: «Это, мол, ваше благородие, просто глупость.» — «Верно, говорит, глупость, жалко, говорит, мне тебя!» Да. Жалко, дескать. Видал? Полицейский человек, по должности своей безжалостный, а вот пожалел…
— Ну, и что же? — спрашиваю я.
— Ничего. Пожалел. А чего ещё?
— Чего ж тебя жалеть, ты вон какой камень!
Яков добродушно смеётся:
— Ч-чудак! Камень, говорит, а? А ты и камень сумей пожалеть, камень тоже своему месту служит, камнем улицы мостят. Всякой материал жалеть надо, зря ничего не лежит. Что есть песок? А и на нем растут былинки…
Когда кочегар говорит так, мне особенно ясно, что он знает что-то непостижимое для меня…
— Что ты думаешь о поваре? — спрашиваю я.
— Про Медвежонка-то? — равнодушно говорит Яков. — Что про него думать? Тут думать вовсе нечего.
Это верно. Иван Иванович такой строго правильный, гладкий, что мысль не может зацепиться за него. В нём интересно только одно: он не любит кочегара, всегда ругает его и — всегда приглашает пить чай.
Однажды он сказал ему:
— Кабы стояло крепостное право да был бы я твой барин — я бы те, дармоеда, каждую неделю по семи раз порол!
Яков серьёзно заметил:
— Семь разов — многонько!
Ругая кочегара, повар зачем-то кормит его всякой всячиной; грубо сунет ему кусок и скажет:
— Жри!
Яков не торопясь жует и говорит:
— Множество силы накоплю я через тебя, Иван Иваныч!
— А куда тебе, лентяю, сила?
— Как куда? Жить буду долго…
— Да зачем тебе жить, леший!
— И леший живет. Али, скажешь, не забавно жить-то? Жить, Иван Иваныч, утешно очень…
— Экой едиот!
— Чего это?
— Е-ди-от.
— Вона какое слово, — удивляется Яков, а Медвежонок говорит мне:
— Вот, сообрази: мы кровь сочим, кости сушим в адовой жаре у плиты, а он — на вот, жуёт себе, как боров!
— Всякому своя судьба, — говорит кочегар, пережёвывая пищу.
Я знаю, что перед топкой тяжелее и жарче работать, чем у плиты, я несколько раз по ночам пытался «шуровать» вместе с Яковом, и мне странно, что он почему-то не хочет указать повару на тяжесть своего труда. Нет, этот человек знает что-то особенное…
Его все ругали — капитан, машинист, боцман — все, кому не лень, и было странно: почему его не рассчитают? Кочегары относились к нему заметно лучше других людей, хотя и высмеивали за болтовню, за игру в карты. Я спрашивал их:
— Яков — хороший человек?
— Яков-то? Ничего. Он — безобидный, с ним что хошь делай, хоть калёные угли за пазуху ему клади…
При тяжелом труде у котлов и при его лошадином аппетите, кочегар спал очень мало — сменится с вахты и, часто не переодеваясь, потный, грязный, торчит всю ночь на корме, беседуя с пассажирами или играя в карты.
Он стоял предо мною, как запертый сундук, в котором, я чувствовал, спрятано нечто необходимое мне, и я упрямо искал ключа, который отпер бы его.
— Чего ты, браток, добиваешься, не могу я понять? — справлялся он, разглядывая меня невидимыми из-под бровей глазами. — Ну, земля, ну, действительно, что обошел я её много, а еще что? Ч-чудак! Я те, вот лучше послушай, расскажу, что однова со мной было.
И рассказывает. Жил-был в уездном городе молодой судья, чахоточный, а жена у него — немка, здоровая, бездетная. И влюбилась немка в краснорядца-купца; купец — женатый, жена — красивая, трое детей. Вот купец заметил, что немка влюбилась в него, и затеял посмеяться над нею: позвал её к себе в сад ночью, а сам пригласил двоих приятелей и спрятал их в саду, в кустах.