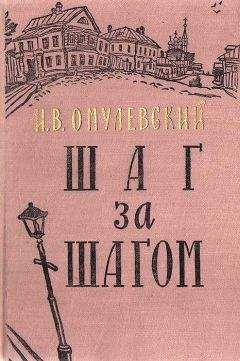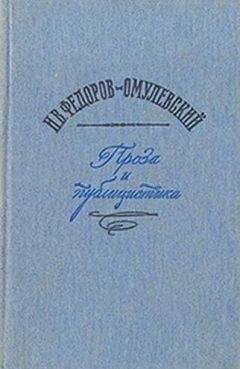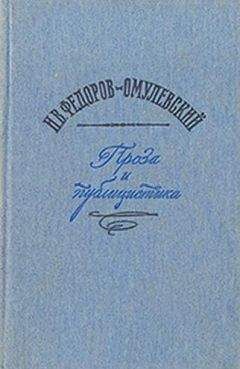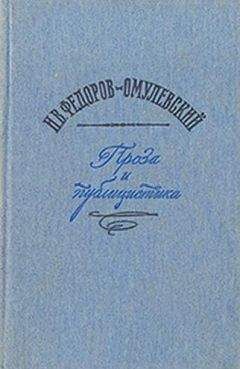Прозорова, следившая, по обыкновению, за уроком из соседней комнаты, вошла в это время в залу.
— Вы сами видите, Лизавета Михайловна, — с достоинством обратился к ней Александр Васильич, — что при настоящих условиях я не могу добросовестно исполнять у вас своей обязанности, и так как мне кажется, что эти условия не изменятся и вперед, то не найдете ли вы более удобным — присылать детей ко мне на дом?..
— Уж это-то… уж это-то… сделайте одолжение… не от нее будет зависеть… Да-с, не от нее-с! — раздражительно вмешался Дементий Алексеич.
— Так вы подумайте и известите меня, — невозмутимо-спокойно докончил Светлов, относясь по-прежнему к одной хозяйке.
Александр Васильич дружелюбно протянул ей руку, ласково простился с детьми и, уже издали, отвесил вежливый поклон хозяину дома.
— Будьте здоровы! — пожелал он ему своим ровным, металлически-чистым голосом и прошел, не торопясь, в переднюю.
Прозоров стоял на месте как вкопанный и тревожно следил за уходившим учителем, с неподвижно разинутым ртом, с вытаращенными глазами, до тех пор, пока фигура Светлова не исчезла за уличной дверью.
— Ну, ну… ну, скажите на милость… ну… ну… ну, на что это похоже? — заговорил тогда Дементий Алексеич, как-то забавно вытянув вперед руки, так что ладони их почти сходились. — Да это… да это… да это просто… разбойник, разбойник какой-то… с большой дороги! — а? Ей-богу!! — заключил он скороговоркой и, наклонив набок голову, опять растопырил руки.
— Полно вам, Дементий Алексеич!.. Что вы издеваетесь-то?.. над кем?.. Вы хоть бы детей-то постыдились! — заметила ему Лизавета Михайловна голосом, полным внутренних слез, и поспешно ушла к себе в спальню.
Тяжелые дни наступили для нее…
С тех пор прошла неделя. Слух о фабричной истории, облетев, с неизбежными преувеличениями, весь Ушаковск, дошел, наконец, и до стариков Светловых. Сначала они было не на шутку встревожились: молва приписывала их сыну самую опасную роль в этом, для многих очень таинственном, деле; иные словоохотливые языки смело и беззастенчиво утверждали даже, будто молодой человек подстрекал фабричную толпу к убийству директора. Само собой разумеется, что последнему никто не верил, тем более Ирина Васильевна. Она сперва с негодованием отвергала такое гнусное и неправдоподобное обвинение, падавшее, по мнению старушки, позором на всю семью, а потом только улыбалась, выслушивая досужие сплетни от своих многочисленных родственников и знакомых.
— Чего уж здесь народ не выдумает, право! — убедительно говорила она им, — слушать-то так даже тошно… Неужели генерал-то приехал бы к Саньке, кабы было что-нибудь и вправду? Чешут языки, поди, из зависти — вот и все!
Действительно, старушка не дерзала и думать иначе: визит представителя местной власти к Александру Васильичу на третий день фабричного происшествия, когда генералу оно было уже известно, легко мог сбить с толку и не такую простоту, как Ирина Васильевна. Однако ж, несмотря на это, она по нескольку раз в день принималась допрашивать сына обо всех подробностях темной для нее истории, — и каждый раз Александр Васильич успокаивал мать безыскусственной искренностью своего рассказа, своим прямым, ни от каких вопросов не смущавшимся, взглядом. Тем не менее, не удовлетворяясь вполне даже и этими расспросами, старушка, втихомолку и незаметно, следила дома за каждым движением молодого человека, не упуская из виду ни малейшей перемены в его лице, ни одной особенности в тоне его обращения с домашними; но и при самом тщательном наблюдении зоркий глаз матери не подмечал ничего подозрительного: молодой Светлов оставался спокойным и ровным, как всегда. Получив надлежащие сведения от жены, Василий Андреич сам не расспрашивал сына ни о чем, был всю последнюю неделю как-то необыкновенно молчалив и только все чаще и чаще покуривал из своей любимой коротенькой трубочки.
— А уж попадешься же ты когда-нибудь здорово, парень, со своими затеями! — вот все, что он сказал сыну по поводу последних толков о нем в городе.
Говоря вообще, с некоторого времени и в особенности с тех пор, как школа Александра Васильича поставила себя в общественном мнении довольно прочно, поведение стариков Светловых в отношении сына значительно изменилось. Ирина Васильевна уж не давала больше советов мужу — «постращать Саньку», а Василий Андреич, в редких разговорах с ним, очень заметно избегал своего обычного, несколько повелительного тона. Старики, очевидно, начинали все сильнее и сильнее проникаться уважением к деятельности молодого человека, как говорится, заваленного теперь работой.
Александр Васильич, знавший, что следственная комиссия, назначенная по фабричному делу, уже с неделю тому назад выехала на место происшествия, стал было и сам успокаиваться понемногу, видя, что его не тревожат. Так как уроки с детьми Прозоровых пока еще не возобновлялись, а Лизавета Михайловна и Ельников были не совсем здоровы, то Светлов в последние дни занимался один в своей школе. Сегодня, в субботу, он только что распустил учеников, как ему принесли записку от Христины Казимировны, наскоро написанную карандашом на лоскутке бумаги. «Папка сию минуту арестован; был обыск. От Варгунина только что приезжал нарочный сказать, что Матвей Николаич тоже взят», — коротко извещала Жилинская.
«Вот они когда начинаются, настоящие-то визиты!» — едко подумал Александр Васильич, разрывая в мелкие клочки лаконическое послание.
Светлов, впрочем, принял это известие довольно холодно, даже не изменясь нисколько в лице, как будто с минуты на минуту ожидал чего-нибудь подобного. Он спокойно присел к письменному столу, написал два письма, запечатал их, не торопясь, вынул из кармана памятную книжку, порылся в ней и, закурив сигару, позвал сторожа школы — седого, коренастого старика из отставных унтер-офицеров.
— Вот эти письма вы отнесите сейчас же, одно на почту, а другое к доктору Ельникову, — обратился к нему Александр Васильич. — Не забыли еще, где он живет?
— Знаю, знаю, сударь, — торопливо проговорил сторож, принимая из рук Светлова конверты, и хотел выйти.
— Постойте, Бубнов… — остановил его Александр Васильич, — сколько я вам должен?
— Два рубля с чем-то, а впрочем, не упомню-с.
— На всякий случай, нам надо рассчитаться, — сказал Светлов, вынимая из бокового ящика деньги. — По моему счету, вам следует по сегодняшний день два с полтиной, — вот вы и получите их; да уж кстати возьмите и за остальное время до конца месяца. Таким образом, я буду считать, что до первого числа вы служите мне, а потом… Я не могу еще сказать вам теперь, как я устроюсь потом.
Бубнов, несмотря на короткое время своей службы у Александра Васильича, успел уже настолько привязаться к молодому человеку, что теперь ни за что бы, кажется, не отошел от него добровольно.
— Чем же вы, сударь, изволите быть мной недовольны? — спросил он у Светлова, заметно обиженный.
— Напротив, я совершенно доволен вами, Бубнов, — поспешил сказать Александр Васильич, — но… по некоторым обстоятельствам мне не приходится располагать собой вперед.
— Коли вы, сударь, это насчет жалованья… так я при вашей милости и так бы, из-за однех хлебов, послужить мог как следует, — чистосердечно заметил старик. Светлов был тронут.
— Спасибо вам, мой хороший Бубнов, за доброе слово! — с чувством сказал он, протягивая руку старому солдату. — Мне, признаться, и самому не хотелось бы разойтись с вами так скоро, и если б тут дело шло только о деньгах, нечего бы тогда и толковать много; но — повторяю вам — я и сам еще не знаю пока, что и как будет дальше… Впрочем, авось мы еще столкуемся.
Бубнов тревожно переминался на месте, очевидно не решаясь высказать какую-то, сильно занимавшую его мысль.
— Это, сударь… не насчет ли… того, что в городе говорят? — молвил он, наконец, предварительно высморкавшись.
— Да разные разности… — как-то вскользь пояснил Александр Васильич, притягивая к себе со стола деньги и вручая их с улыбкою старику.
— Эх! уж и брать-то его не хочется, жалованье-то… — с тяжелым вздохом выговорил Бубнов, нехотя принимая деньги.
Он нерешительно постоял еще несколько времени на месте и, снова тяжело вздохнув, вышел.
Светлов облокотился на письменный стол и задумался. Минут через пять, как бы очнувшись, Александр Васильич быстро поднял голову, встал, прошел в классную комнату, уселся угрюмо на одной из ее скамеек и опять погрузился надолго в какое-то сосредоточенное забытье.
— Так они думают, что развитый, весь преданный своему делу человек не стоит любой, уставленной пушками, крепости?.. Дети же они после этого! — громко и выразительно сказал он, наконец, неведомо к кому обращаясь, и его сильный металлически-чистый голос как-то странно и резко нарушил мертвую тишину пустой школы.