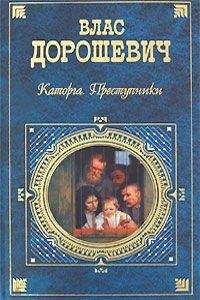Зачем? Почему?
— Такова моя натура, — отвечает он, — таково свойство моего таланта. Иначе я ничего не напишу. Иначе ко мне не сходит вдохновение. Мне надо, чтобы моя кровь кипела, чтобы у меня кружилась голова от этого угара. Это мой алкоголь, мой морфий.
В течение двух актов этот тип очень интересен.
Вы ждёте:
— Чем это кончится? Чем можно это кончить?
Кончается глупо.
Для удовольствия публики, заплатившей по 10 франков за кресло, герой пьесы раскаивается, исправляется, даёт слово:
— Больше не буду!
Чего ж он не будет? Писать? Раз иначе к нему не сходит вдохновение!
Режан играет в пьесе роль жены. Она любит своего мужа до самопожертвования.
Она умнее автора и решает:
— У нас ничего не выйдет, надо уйти.
Но как уйти, чтоб у любимого человека не шевельнулось упрёка совести? Чтоб его вновь не потянуло к ней?
И она «надевает маску»:
— Я ухожу от тебя, потому что я люблю другого. Потому что я тебе изменила!
Тут разыгрывается одна из лучших сцен пьесы.
Как, на самом деле, забавно у нас взаимное отношение мужчины и женщины.
Муж, изменявший жене на каждом шагу, узнаёт, что и жена ему не осталась верна.
— Как? Ты? Несчастная! Презренная!
Он в раже. Он рвёт на себе волосы. Он бьётся головой об стену.
Но ведь он-то! Он-то!
Он — другое дело! Этого требует его талант!
А может быть, и у неё есть какой-нибудь талант, который этого требует?
Она — женщина.
— Ты меня опозорила! Ты — последняя из тварей! — кричит он, как закричал бы на его месте всякий муж.
И надо видеть в эту минуту Режан, когда она, бледная, с перекошенным лицом, падает под тяжестью оскорблений, едва сдерживаясь, чтоб не крикнуть:
— Я солгала!
Прежней Режан, Режан «Sans-Gêne»[13], весёлый и задорный талант которой искрился как шампанское, больше не существует.
Театр г-жи Режан превратился в театр тихих драм, беспросветных и тяжких как жизнь.
Покинутая жена, несчастная мать, женщина, полная самоотвержения, самопожертвования, женщина-жертва, способная на самое великое — безмолвное страдание, — нашли в Режан свою поэтессу.
Она чудными и тонкими акварельными красками рисует нам эти образы, эти страдания, эти тихие трагедии невысказанных слов, невыплаканных слёз.
Это сделало всесокрушающее время.
От таланта Режан веет нежным и печальным ароматом увядающей розы.
Быть может, вы предпочитаете дерзко красные розы ранней весны, но в грустном аромате увядающих цветов так много прелести и элегии.
Я не знаю, когда Режан была лучше, прежде или теперь.
Но это две совершенно различные актрисы.
Над столицей мира, над «ville lumière»[14] она блестит теперь бледной и печальной угасающей утренней звездой.
И много новой прелести в этом новом её тихом блеске.
А. А. Рассказов (Посвящается «доброму» старому времени)
Какое старое это имя.
Какого далёкого, какого другого времени!
Все те светила, среди которых небольшой, но яркой звёздочкой горел в Малом театре его талант, давным-давно перешли в «труппу Ваганьковского кладбища».
Смерть словно забыла про старика.
— Наши все на Ваганьковском! — хихикая, говорил Александр Андреевич. — Кладбищенский отец дьякон основательно шутит, когда актёра какого хоронят: «У нас на Ваганьковском-то труппа почище, чем у вас в Малом театре». А я держусь! На Ваганьковское часто езжу. То тот, то другой из сверстников подомрёт. Езжу, — только назад возвращаюсь!
И старик смеялся хитрым и довольным смешком.
Деятельность Рассказова.
Мне попалась как-то афиша одного из первых представлений. «В чужом пиру похмелье» Островского.
Андрея Титыча Брускова, кудрявого Андрюшу, играл «г-н Рассказов».
Какие исторические. Какие доисторические, можно сказать, времена.
Настоящая деятельность Рассказова протекала при Щепкине, при Шумском, при Садовском.
«Настоящая деятельность», потому что под конец своей жизни старик «больше не играл, а баловался», «играл, чтоб не забыть», развлекался, чтоб не скучать.
Он жил на покое.
Жизнь началась для него трудно.
— Только тем и жил-с в молодых годах, что купеческих детей танцам обучал. Ведь мы в старину и, батюшка вы мой, из театрального-то училища выходя, всё знать должны были. Это не то, что теперь-с актёры пошли, которые ничего не знают: а мы фехтованию и танцам. Бывало, есть свободный вечер, в Замоскворечье и лупишь. Молодцы из «города» придут, купеческие дети к свадьбам готовятся. Огулом и учишь. Русским танцам, вприсядку. Но только купеческие дети больше французские танцы любили. Польку-трамблян, кадриль, вальс. Ну, и поклонам и как даме руку подавать. Комплиментам тоже обучал. Из ролей комплименты брал и их говорить учил. Копеек тридцать-сорок в час платили. В старину-то просто было.
Под конец жизни старик отдыхал в своём «имении», под Симбирском, на берегу Волги.
Он всех звал к себе:
— Поедете, батюшка вы мой родной, по Волге, ко мне в «Рассказовское ущелье» заезжайте. Благодать, рай! Потому и не умираю, что не надобно. Господи, Боже мой! — в восхищении восклицал старик. — Чего мне ещё от Господа надобно! Живу, можно сказать, барином! Всё у меня, слава Тебе Господи, есть! Всё своё, не купленное! И морковка, и капустка, и репка, и прочая овощь всякая, и ягоды, и рыбка своя, и творог, молочко, сметана, масло. И огород, и сад, и луг свой, и пристань.
— Велико у вас, Александр Андреевич, имение? — спрашивал кто-нибудь из непосвящённых. — Много десятин?
— Одна.
И старик продолжал с упоением:
— Ягод захотел, — садовнику сказал: «Набери-ка, братец ты мой, мне к обеду клубнички!» Редисочки захотел, — огороднику сказал: «Натаскай мне редиски». Рыбки захотелось, — рыболову приказал, — своя стерлядь-то в Волге! Поехать куда захотел, — кучеру лошадь заложить велел!
— У вас, значит, много, Александр Андреевич, прислуги?
— Один. Он у меня, батюшка, за всё. Он у меня и огородник, он у меня и садовник, он у меня и за кучера, он у меня и рыболов. Землю копает, крышу красит и постройки возводит, плотничает.
— Много получает?
Александр Андреевич пожимает плечами:
— Я его не бью. Голоден не бывает. Ест, что даю, сколько хочет. Чего ему ещё? Он человек молодой! Другой раз дашь рубль, скажешь: «Что ты, братец ты мой, какой неряха? На тебе рубль, сходи в город. Ты человек молодой, жилетку себе купи, сапоги справь, чаю, сахару приобрети, в баню сходи, мыла купи, — ну, а на остальные развлекись!»
Так доживал на покое и в довольстве свои дни и «торжествовал» Лев Гурыч Синичкин, как на закулисном языке звали Александра Андреевича Рассказова.
Он весь принадлежал прошлому, нового времени не понимал и не любил.
— И, батюшка вы мой, какие теперь актёры пошли! Жалованье спрашивает, ушам не веришь. «1200 рублей», — говорит. «В год?» Посмотрит так, губы отпятит, словно плюнуть на тебя хочет: «В месяц!» Потому и двойные фамилии имеют, что вдвойне жалованье получать желают. На Антона и на Онуфрия бенефисы берут. А прежде?
И Александр Андреевич умилялся:
— Берёшь в труппочку любовничка чистенького, брючки у него не порванные, сюртучок не закапанный, цилиндрик и на левую руку перчаточка. Душа радуется! 75 рублей в месяц ему дашь, — матери напишет, чтобы в поминание тебя записала! А удовольствия от него публике сколько угодно. Приятно такого молодого человека на сцене видеть. Многие даже купчих увозили. Вот тебе и 75 рублей!
И Александр Андреевич смотрел победоносно.
Словно хотел сказать:
— Вы, нынешние, по 1200 рублей, ну-тка!
— Теперь, помилуйте, батюшка вы мой, какой актёр пошёл? — жаловался он. — Не актёр, а магазин готового платья. «Я, — говорит, — меньше восьми сундуков с собой не вожу!» Он любовника играет, а на нём костюм 120 рублей стоит. Портному только и смотреть! А в моё-то время! Служил я в Малом, вдруг говорят: «Ты завтра Хлестакова играешь!» И воссиял, и обомлел. Карьера! А играть-то в чём? Хлестаков сам говорит: «пустил бы фрак, да жалко. Фрак от первого портного из Петербурга». А жалованья-то получал…
Я не помню в точности, сколько именно говорил А. А. Рассказов. Кажется, что-то около 7 рублей 33 коп. в месяц, «капельдинерский оклад».
— На что тут «фрак от первого портного» заведёшь? Что мне делать? Побежал я на Толкучку. В те поры хорошие портные, чтобы материала не портить, сначала, для примерок, из нанки костюмы шили. А потом уж дорогое сукно и кроили. «Нет ли, — спрашиваю, — пробочки?» Нанковые брючки и купил с костюмчиком за полтора целковых. Сшит-то у первого портного, — сразу видно. Что и требуется. А материал — кому дело? Так-с в нанковых брючках Хлестакова и сыграл. И успех имел, вызывали всем театром. А городничего играл Щепкин. С ним выходил кланяться… А нынешние в вигони играют, да и то подавай им английскую.