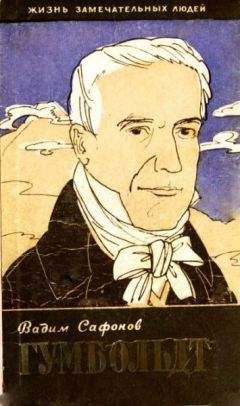В конце 70-х - начале 80-х Н.В. Гернет включилась в деятельность Солженицынского фонда. Каким именно было ее участие в этом тогда не лишенном риска предприятии, не знаю, но хорошо помню, как Нина Владимировна ужасалась и негодовала, видя - теперь это ясно - страшную агонию советского чудовища. Госбезопасность 80-х, а она стала тогда особенно отвратительна гипертрофированной беспринципностью в поисках и борьбе не с "инако-" даже, а просто с "мыслием", не обошла ее своим вниманием - обыски, допросы и нервотрепка достались тете Нине сполна по делу добивавшегося гэбэшниками Солженицинского фонда. Она и умерла-то вскоре после того, как из "Большого дома" ее как следует "подоставали" по этому делу.
Летом 45-го по окончании занятий в школе я полностью насладился ничем не ограниченной свободой - моим миром стали двор и друзья Толик и Игорек Сахаровы (было бы приятно, если бы кто-то из них прочел эти слова: видите, друзья, ничто не проходит бесследно, даже наши мальчишеские "казаки-разбойники" и "штандеры", ссоры и дружбы, авантюры дворового масштаба, тихие вечерние посиделки, опасные путешествия в "чужие" зоны, предчувствия романов и девчонки, из которых помню только одну, звали ее Тоня - совсем взрослая барышня, я для нее не существовал, но сам глядел на нее во все глаза).
Наконец пришел День Победы, который нельзя было не запомнить, настолько он был полон всего: ярчайших происшествий, неожиданных встреч и поступков, общего легкого безумия и, конечно, самого высокого смысла - это чувствовали даже дети. Мальчишки оказались совершенно бесконтрольны - бегай, где и сколько хочешь, потому что никто и ниоткуда не ждал в тот день опасностей или неприятностей. Мы так и делали, т.е. не переводя дух гоняли по всему городу, возвращались домой, что-то перехватывали и снова исчезали. Рассказы о военных, плативших мороженщицам за весь их лоток сразу и тут же раздававших все подвернувшимся ребятишкам и всем, кто хотел, - это не легенды, а чистая правда. За военными на всякий случай ребятишки ходили хвостами, и потому, конечно же, что они были первыми и главными героями праздника, а кроме того, кто знает, вдруг и этот купит. Настежь были распахнуты все двери - в домах, в квартирах... Я не знаю, пользовались ли этим квартирные воры, но допускаю, что и они тогда смягчились и не сыграли на ситуации. Словом, обстановка в самом городе и в сердцах людей на его улицах была такой, что ничего подобного я, пожалуй, и не припомню, а ведь меня смело можно называть старожилом.
Самое же грандиозное было вечером. Такого салюта мы не видели за всю войну, хотя и насмотрелись на них за ее долгие годы, и все, казалось бы, уже видано - и прожектора, и пляска лучей по небу, и вывешенные в небе портреты вдохновителя и организатора Победы. На этот раз было все то же, но ошеломило количество, которое явственно и очень по-марксистски перешло в качество: прожектора пронизали небо густой, в определенные фазы залпов неподвижной и торжественной сетью; тотчас вместе с залпом их лучи начинали бешеную пляску в синем весеннем небе, а спустя некоторое время замирали в ожидании очередного взлета ракетных россыпей. Противные аэростатные рыбины несли на себе массу символов - огромное алое знамя, которое реяло на ветру, как бы нарочно к случаю подувшим с подходящей силой, сияющий лик вождя, изображение ордена Победы (я любил включать его в центр военно-патриотических композиций - в этом искусстве я продолжал упражняться) и еще что-то. Вороньи стаи, поднятые небывалым грохотом, подчеркивали своим мельканьем веселую суету. Земля смотрела в праздничное небо тысячами и тысячами возбужденных лиц, и души людей были полны надежды.
Послевоенная жизнь потекла в сопровождении новых сложностей - разруха, возвращение вдоволь навоевавшихся и разочарованных долгожданным миром солдат, недостаток жилья и продовольствия. И что же - жить оказалось ненамного легче, чем воевать.
В 1946 году после отбытия 8-летнего срока выпустили из лагеря Анну Васильевну (1893-1975, Тимирева по первому браку, Книпер - по второму). В поисках места для поселения, а "минусовые" ограничения с нее не были сняты, остановились на поселке Завидово, удаленном от Москвы далее требуемых правилами уголовной игры ста километров. Летом 46-го Тюля подкинула меня к Михаилу Алексеевичу Шапошникову, который поселился в Завидове, тоже получив "минус" после отсидки. Там я и встретил тетю Аню, а наши отношения быстро вышли из фазы первых проб - ее и моих - и вошли в русло нормального возрастного совершенствования. Педагогическая метода Анны Васильевны разительно отличалась от уже привычного для меня Тюлиного подхода, что нисколько не странно, если учесть, что чисто личностно они были удивительно разными. Тюлины неспешность, романтизм и флегма были полной противоположностью мгновенной реакции, быстрым переходом от слов к делу и трезвому практицизму тети Ани. Тогда я этого, конечно, не формулировал для себя, но возможность для маневра между этими двумя полюсами уловил тотчас (подробности в соответствующем разделе моих воспоминаний в книге "Милая, обожаемая моя Анна Васильевна...").
По окончании лета 1946-го я вернулся на Плющиху. На смену увлекательному сожительству с Гернетами пришел табор Шапориных: муж Вася - художник, сын известного композитора, жена Наталья, ее мама - совсем старенькая и безымянная бабушка, двое детей - кокетливая Сонечка 6 лет и 2-летний крикун Петька. "Солнечная Наташа" - так потом называла Тюля Васину жену, причем произносила это по возможности сдобно, пытаясь воссоздать образ шумной хохотушки, пышущей энергией, молодой и яркой блондинки. Изобразить Наташу, разумеется, не удавалось - слишком уж различны были их породы. В Наташе кипела активная женственность, ей все время нужно было чувствовать, что в раскиданной сети есть улов, она купалась в обращенном на нее внимании (все это напрочь отсутствовало в Тюле). Даже меня - восьми-девяти-летнего пацанчика - Наташе нравилось смущать неожиданными просьбами, например, полить ей, когда она ополаскивалась, что-то помочь застегнуть или, того пуще, расстегнуть, вводя в состояние необъяснимого сердцебиения. Вася пребывал в состоянии нескончаемого бега на дистанции добычи денег для своего прожорливого семейства - знаю, что он делал что-то как театральный художник, но что именно?!. Белокурая Сонечка легко завоевала место номер один в моем сознании, и я уже планировал количество детей в нашем несомненно грядущем браке; Сонечка благосклонно интересовалась этим разделом прикладной математики. Но пришел момент, и Шапорины растаяли, чтобы уже никогда не появиться на моем горизонте снова.
Еще один наш частый гость - Б.М. Эрбштейн, постоянно появлявшийся в Москве из мест своих высылок. В него Тюля была влюблена глубоко и безнадежно, но я бы не сказал "тайно". Я часто слышал, как она, сидя за работой, вдруг задумчиво и негромко произносит: "Борис...". Я не то чтобы понимал, но уж во всяком случае не осуждал Тюлино увлечение - Борис Михайлович действительно был блестящий человек, который мог нравиться сколь угодно глубоко и сильно. Думаю, что художником он был в самом широком смысле -творческая энергия переполняла его. Случись ему стать не художником, а актером, режиссером или кем угодно еще - он и там был бы хорош. Все, что он делал, исполнялось с высочайшим каким-то очень молодым темпераментом и артистизмом. В свое время он работал художником в театре Мейерхольда, наверное, был туда принят не просто так. Позже он и поплатился за это сотрудничество годами высылок и лагерей, пыткой работы в почти самодеятельных периферийных театрах. Следом такой работы явилась одна из идей Бориса Михайловича - новые театральные постановки называть не премьерами, а новыми позорищами. "Представляете, Илюша, афиша, а на ней аршинными буквами - "завтра у нас в театре Новое Позорище!". Идейка и в самом деле недурна! Еще одной формулой Бориса Михайловича был "уровень Сызрани" (произносится максимально брезгливо, с гримасой отвращения) - эталон безобразия, означавший "хуже некуда"! Не забыть и вечерних сцен у нас на Плющихе, когда Эрбштейн, не в силах удержать бушующую в нем энергию, бегал по комнатам, развивая очередную взволновавшую его идею, например, о беспримерной и неподкупной честности русского взяточника. И как логически безупречно обосновывал он свои абсурдистские позиции! - это был фейерверк мгновенно сопряженных положений, блестяще импровизированных постулатов, а вместе все складывалось в роскошную демонстрацию остроумия и ума.
Довольно часто приезжал Владимир Васильевич Стерлигов, называвшийся у Сафоновых Лабарданом. Меня, еще совсем небольшого, он очаровал непритворной серьезностью отношения ко мне, а также ожиданием чуда, которое он вот-вот совершит. В конце концов и то, и другое оказалось полной правдой: при естественной веселости нрава Владимир Васильевич ко всем явлениям жизни относился с высочайшей серьезностью и ответственностью, чуда же ему совершать и не нужно было, поскольку чудом был он сам.