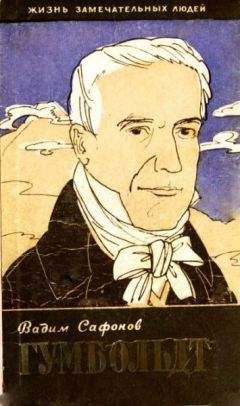Но начал он с маленького фокуса: "Ты когда-нибудь видел жукуську? - тоже необыкновенно серьезно спросил он меня. - Ах нет, ну тогда придется нам ее сделать". Жукуська была делом нешуточным: для ее изготовления были испрошены кусок хлебного мякиша, коробок спичек и маленькая дощечка. Из хлебного мякиша Владимир Васильевич приготовил фигурку какого-то зверька, осмотрел ее критически и принялся за поправки: "Нет, это не Жукуська, вот как должно быть у Жукуськи - вот так и так!". Но и правленая фигурка не устроила его - стало ясно, что за Жукуську он принялся всерьез и теперь мы связаны этой общей тайной.
На следующий день я с трудом дождался прихода Лабардана из его деловой экспедиции в город. Пока ужинали и обсуждали с Тюлей случившееся за день, ему пришлось обуздывать мое нетерпение: "Не торопись, Жукуську нужно делать не как-нибудь, не спустя рукава. Если хочешь, чтобы Жукуська получилась хорошо, а плохо она и не получится - тогда это будет не Жукуська, необходимо терпение. Первое правило - быть спокойным и неторопливым, и тогда все получится". Наконец мы принялись за продолжение, дело дошло и до спичек, назначение которых было мне совершенно неясным, - они превратились в некие конечности, члены странного существа. Это были не просто ноги, поскольку торчали не только вниз, но и вверх, не рога и не крылья, их назначение было загадочным и потому волновало.
Момент приведения Жукуськи в действие, ее оживление никак не наступали, и я пребывал в постоянно взведенном состоянии, Лабардан же ловко умиротворял мое нетерпение. Я приставал к нему, чтобы он хотя бы объяснил мне, что сможет Жукуська, в чем ее суть: запищит ли она или подпрыгнет, взорвется или полетит - чего вообще следует ожидать от этого странного существа, а она была уже не кусочком подсохшего хлебного мякиша, утыканного спичками, а существом. Лабардан морочил мне голову: "Она - как бы тебе это объяснить, она сможет... нет, не смогу, это надо видеть только самому, так что жди и надейся!".
И что же, Лабардан уехал, Жукуська так и осталась несбывшейся легендой, но самое странное, что я не испытывал никакой обиды, поскольку обмана-то и не было. Я понимал, что у нас просто не хватило времени, потому что Жукуська это слишком серьезно.
Чуть позже вместе с Лабарданом стала появляться его жена Татьяна Николаевна Глебова, тоже художник и в самом высоком смысле слова удивительно красивая женщина. Прошло время, я повзрослел и уже не ждал Жукуську, мне было просто интересно разговаривать с этими людьми. И вот я женился, и родилась дочь Маша. Однажды в преддверии этого события Владимир Васильевич спросил меня:
- Скажите, Илюша, а вы не боитесь (я стал ростом выше, заметно возмужал, и с некоторых пор он обращался ко мне на "вы")?
- Я? Да чего бояться-то! - легкомысленно воскликнул Илюша. - Радоваться надо, а не бояться!
- Ну, это как посмотреть, - сказал Владимир Васильевич скорее самому себе. - Вы пускаете в жизнь нового человека, впереди у которого целая жизнь, полная таких сложностей, что дух захватывает, а ведь вы в некотором смысле за нее отвечаете!
Предстоящие Маше сложности я воспринял скорее формально - будущее представлялось мне в виде светлого тумана, в котором ожидается что-то хорошее и для меня, и, естественно, для моего еще не родившегося дитяти. Глубина и серьезность сомнений Владимира Васильевича стали проясняться для меня существенно позже, когда туман будущего при входе в него рассеивался, но легче от этого не становилось. Это был один из случаев, когда сказанные слова оказались больше обращены ко мне будущему, чем к тому юнцу, который их поверхностно выслушивал.
Еще позже, когда Владимир Васильевич из тихого художника шел к тому, чтобы возглавить ленинградский художественный авангард и уже имел массу учеников и последователей, эту метаморфозу он объяснил мне (или самому себе) таким образом:
- Сейчас мне кажется, что раньше я от страха жил как бы под кроватью. Я все время боялся - боялся сказать или сделать что-то так, как сам считаю нужным. И я страшно устал от этого, и мне стало стыдно бояться. И представьте себе, наступил момент, когда я вдруг сказал себе: "Все, больше я не боюсь" - и с этих пор стал спокойно говорить и делать только то, чего сам не стыжусь.
Он был несомненным мыслителем и развил в изобразительном искусстве идеи своего учителя Малевича. Мне довелось присутствовать на докладе Владимира Васильевича о чашно-купольном принципе и о роли кривой в изображении мира, который состоялся в начале шестидесятых в переполненном зале Музея архитектуры им. Щусева. Я слишком слабо подготовлен в области изобразительного искусства, чтобы связно пересказать услышанное. Сформулированные им теоретические основы были трудны: очень поверхностно знакомая мне область и решительная новизна существа выступления даже для более квалифицированных слушателей. Тем не менее, артистизм изложения был настолько велик, а убежденность автора и докладчика столь абсолютна, что, пока Владимир Васильевич говорил, мне удавалось удерживать в памяти (или казалось, что я удерживаю) сложную цепочку взаимосвязанных постулатов. Картина рухнула через пять минут по окончании доклада - я был совершенно не готов, чтобы закрепить услышанное в отсутствие фундамента. Но это я, сам же Владимир Васильевич был полностью одержим своими идеями, они образовывали его целостный мир, существовавший и развивавшийся по своим собственным законам. Новации Владимира Васильевича хорошо включались в уже разработанную систему взглядов. Преемственность его идей, увлеченность ими, желание научить людей уже самим понятому - все это вывело его в число лидеров ленинградского художественного авангарда. Да и сегодня сформулированные им принципы находят среди художников своих приверженцев; на выставках можно видеть совсем незабытые работы Владимира Васильевича и Татьяны Николаевны висящими рядом с работами их учеников и продолжателей намеченного ими направления.
Постоянными посетителями нашего дома в течение долгого времени были Тюлины подруги по работе: Лидия Васильевна Чага, красавица Наталья Абрамовна Ушакова по прозвищу Натуся, Женя Кошталева, Лиля (Елизавета Григорьевна) Аксельрод, Сеженская Татьяна... Сеженская, которая просто звалась у Тюли Танькой, была источником дивного рассказа. Ее муж работал диктором на радио и получал письма преимущественно от слушательниц: завороженные бархатным тембром его голоса, они воображали себе Бог знает что и заваливали его признаниями в любви. Самооценка диктора под влиянием писем накопительно росла, пока количество не перешло в качество. Одно из писем переполнило чашу: владелец драгоценного голоса наконец полностью осознал, какой могучий дар ему достался. В письме некая пылкая особа объявила, что одного голоса ей мало - она хочет его тело! Проникшись волнующим содержанием полученного сигнала и, видимо, почувствовав "мой дар востребован, теперь или никогда", бархатный баритон бежал от Таньки к плотоядной поклоннице. Так насовсем и исчез.
Чага была маленькой и загадочной, а Натуся просто красавицей. Лиля - мать моего друга Андрея - всегда привлекала активной женственностью, кипучим жизнелюбием; она излучала некий женский магнетизм, которому поддаешься, хочешь того или не хочешь.
Женя Кошталева давным-давно потерялась - к сожалению, у меня нет никаких сведений, что с ней сталось: она как-то незаметно сошла с нашего семейного горизонта еще при жизни Анны Васильевны. В самом разгаре дружбы с Тюлей, а было это в течение лет десяти в 50-60-х - обе работали тогда в Драмтеатре им. Станиславского, Женя Кошталева бывала у нас постоянно. Меня она называла "мой подруг" и всячески вовлекала в жизнь своего семейства, состоявшего из нее самой и ее маленькой сумасшедшей мамы. Я аккуратно уклонялся. В 60-е годы, имея возраст около сорока, Женя время от времени муссировала тему любви и замужества; какие-то точечные романы, судя по ее рассказам, у нее постоянно вспыхивали и гасли. Наконец, возник - сначала только в рассказах - некий господин, претендовавший на роль Жениного жениха - под этим названием он и фигурировал в разговорах. Наконец, однажды Женя привела его к нам; кажется, был какой-то праздничный день - скорее всего, Новый год. Компания собралась пестрая: Миша Мейлах из Ленинграда, Женя с "женихом" и Марина Лазарева-Шехтель с дочерью Кирой, юной и изящной красоткой - с подачи самой Марины Киру называли у нас "бабой". Женя чувствовала себя светской львицей, пожирательницей сердец, и держалась соответственно - раскованно и свободно. Она считала себя человеком прямым, иногда грубоватым, но способным брякнуть правду, когда другие уклоняются и юлят; для поддержания имиджа она громко хохотала и вставляла не всегда уместные реплики, которые в тот вечер встречались дружным хохотом и укоризненным тети Аниным "Же-е-ня!". Инициатива за столом легко перешла к Марине Шехтель - удивительно артистичной и всегда готовой на маленькие импровизированные инсценировки. Женя, чтобы удержаться на высоте или хотя бы сохранить активность, ревниво комментировала Маринины импровизации. Между делом она время от времени наносила шпажные уколы в непосредственную окрестность, например, вдруг доверительно спрашивала Мишу Мейлаха: "Скажите, а почему Вы такой бледный - у Вас глисты?". Вечер шел под взрывы хохота от веселых проделок Марины.