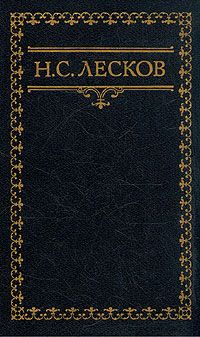Это требовало больших расходов, и притом это была такая надобность, которой нельзя было отвести: но Алымов, однако, с этим справился: он уехал из дома в самый сев и возвратился домой «по грудкам», когда земля уже замерзла и была запорошена мелким снегом. А чтобы не нести покор на своей душе, что он бросил крестьян на жертву бескормицы, он их утешил:
– Братцы! – сказал он «своим людишкам» по возвращении, – я об вас хлопотал – хотел найти озимых семян, да не нашел; но вы как-нибудь перебьетесь… Не правда ли? Я нашел отличные семена яровой ржи и купил целых десять четвертей. По осени их везти неспособно было из Дмитровки, а теперь готовьтесь: как санный путь встанет – поезжайте на пяти подводах, берите по две четверти на лошадь и привозите домой, ссыплем в один мой амбар, а по весне, что бог даст, – запашем и засеем все земли – мои и ваши, и будет чудесно… не правда ли?
Мужики отвечали: «Может, и правда!» А сами подумали: «Верно, брешет, – верно, что-нибудь крутит, шишимора!» – однако поехали и яровую рожь привезли.
А какая она такая будет и годится ли – то им было неведомо, и потому они делали все это с неудовольствием.
Прибыли на двор, выпрягли лошадей и оставили рожь на санках – ссыпать было поздно.
А когда пришли ссыпать на другой день, то увидали нечто необыкновенное: господин их захотел божье зерно все перепортить.
Алымов начитал в «Трудах Экономического общества» что-то необыкновенное о «навозной жиже», в которой рекомендовалось мочить семена и потом их высушить, и от посева таких семян урожай бывает отменный.
Шишимора сейчас же устроил у себя на скотной избе ящик, величиною в два больших корыта, навел там жижицы на мешаном конском и ином помете и велел в нем «зерно макать да просушивать» и тогда только в амбар ссыпать.
Затея эта мужикам очень не понравилась и показалась глупою, а оттого и руки у них не поднимались, чтобы «добро незнамо в чем мочить»; но делать было нечего – власть господская выше, и мужики своему «шишиморе» повиновались, все помочили, обсушили и ссыпали, – амбар заперли и ключ ему принесли и у самых образов на стенку повесили. А шишимора сейчас же опять велел заложить свою тройку в сани, взял казачка Валетку и собаку «Интенданта» и поехал свататься на целую зиму. И выезд этот он производил с повсеместным успехом, которому очень помогала его «продувная штука», «как он оплел мужиков».
Оплетение же заключалось в том, что яровая рожь, припасенная на семя, была «припоганена» посредством замачиванья ее в навозной жиже и что теперь за эту рожь уже бояться нечего, так как мужики ее, «поганую» от мочки в навозе, на снедь уже не украдут.
– А что же они зимой будут есть? – спрашивали майора.
– Сделайте вашу милость! – отвечал Алымов, – об них, пожалуйста, не беспокойтесь! Они свое дело знают. Но я их, впрочем, так не оставляю: я им сказал: «Братцы! ведь это всего только до весны… вы до весны как-нибудь перебейтесь!» Они, не беспокойтесь: они перебьются!
И всем это казалось очень забавным: люди с воображением представляли себе – как там у него мужики придут к амбару, где ссыпана рожь, моканная в навозной жиже, и понюхают они, чем пахнет, и увидят, что рожь есть, а есть ее нельзя… Вот и смех! не правда ли? – вот они и пойдут прочь и «как-нибудь перебьются».
Этого человека не презирали и не порицали, а, напротив, находили его шишиморский поступок очень забавным и продолжали всюду принимать Алымова и кормить его. Но мы теперь оставим майора путешествовать из дома в дом, а сами посмотрим, как обходились и что выдумывали те, кому было предоставлено: «как-нибудь перебиваться».
Перед Рождеством Христовым прошла молва, что началось людоедство. Известно, что и в 1892 году в деревнях об этом пробовали говорить; но теперь писаря и старшины читают газеты и знают, что о таких событиях пишется, а потому ложь скоро опровергается; но тогда было другое дело. Пришел кто-то откуда-то и стал сказывать, будто бы с отчаяния и с голоду люди убивают других люден и варят их в золовых корчагах и съедают. По преимуществу такие проделки приписывали матерям, которые будто бы делали это из сострадания. Глядит-глядит будто бы мать на своих детей, как они мучатся голодом, и заманит к себе чьего-нибудь чужого ребенка, и зарежет его, и сварит, и накормит своих детей «убоиной». Указывали даже очень недалекие селения, где будто наверное совершились все такие происшествия, и описывали подробности этих случаев. Так, в одном селе, которое было от нас в десяти верстах, одна баба будто бы долго терзалась, глядя на томление умиравших от голода четырех детей, да и говорит им с вечера в потемочках (огня в деревнях тогда многие по бедности «не светили»):
– Спите, детки мои, голубяточки, и если вы спать будете, то я вам завтра сварю убоинки.
Старшая из детей этой бабы уже понимала нужду своего бедного житья и говорит:
– Где же ты, мамка, возьмешь нам убоинки?
А мать отвечает:
– Это не ваше дело: вы уже только засните, а я побегу либо у кого-нибудь выпрошу, либо впотьмах у волка вырву.
Девочка и раздумалась о том, как мать будет впотьмах у волка из зубов мясо вырывать, и говорит:
– Страшно, мамушка!
А баба отвечает:
– Ничего не страшно: спите! Вот как вы не спите да голосите, так мне это гораздо страшнее!
А было это как раз в сочельник.
Дети же у бабы были погудочки – все мал мала меньше: старшей девочке исполнилось только пять лет, а остальные все меньше, и самый младший мальчишка был у нее у грудей. Этот уж едва жил – так он извелся, тянувши напрасно иссохшую материну грудь, в которой от голода совсем и молока не было. Очевидно, что грудной ребенок неминуемо должен был скоро умереть голодною смертью, и вот на него-то мать и возымела ужасное намерение, о котором я передам так, как о нем рассказывали в самом народе.
Как только баба обманом угомонила детей и ее старшие ребятишки уснули с голодным брюхом, она взяла своего грудного мальчика, дрожавшего в ветошках, положила его к себе на колени и дала ему в ротик грудь, а возле себя положила на стол хлебный ножик. Изнуренный ребенок, несмотря на свою усталость, взялся за грудь, но как молока в груди не было, то он только защелкал губенками и сейчас же опять оторвался и запищал… Тогда мать пощекотала у него пальцем под шейкой, чтобы он поднял головку, а другою рукою взяла нож и перерезала ему горло.
Убив дитя, она будто сейчас же положила его в ночвы, а потом разняла на части, посовала в горшок и поставила в печку, чтобы мясо сварилось, а «утробку» на загнетке в золе сожгла, и ночвы и стол вымыла, и тогда побудила старшую девочку и сказала ей:
– Вот тут, в печи, стоит горшок – варится… В нем, гляди, для вас полно убоины… достаньте его и все мясушко съешьте, ничего не оставляйте. Слышишь ли?
Девочка говорит:
– Мамушка рудная! ты зачем же одна в кусочки пойдешь, когда у нас убоинка варена! Съешь убоинки! Но мать только побледнела и руками замахала:
– Нет, – говорит, – я не хочу – вы одни ешьте! – и с этим толкнула дверь ногой и ушла.
А девочка сейчас же высунула емками горшок из печи, перебудила своих младших, – сели за стол и начали есть.
И всего своего братца они съели бы без остаточка, но только кому-то из них к концу стола попалась нераскинувшаяся в кипятке ручка или ножка ребенка, и они по этой ножке или ручке узнали, что едят «человечину»…
Тут они бросились бежать вон из избы, но только что отворили дверь, как смотрят – мать их в сенцах висит удавившись, подцепив веревку за решетину в снятой крыше.
В другом же селе вышло будто дело еще страшнее: там будто бы «внучки съели свою бабушку».
Обе эти новости принес в деревню и рассказывал всем на удивленье и на страх сухорукий Ефим, у которого было особенное, очень приятное положение. Его называли «прощенник», потому что он когда-то, еще при прежних господах, сделал очень большой грех: украл и один, ни с кем не поделясь, съел целый артос, и за это он был три года скорчен, но потом госпожа ездила куда-то к святыне и возила этого Ефима с собой, и он там исцелился. «Бог его простил»: корча от него была отнята, но для памяти о его грехе у него рука усохла, так что работать ему было невозможно. С тех пор Ефим не жил оседло, а все ходил по святым местам, «молился и презвищал». Ефим был мастер рассказывать, но в основе его рассказов часто бывало много вздора, и врал он, ничем не стесняясь, как будто ему и не было прощения. Точно так же он наврал и о сваренном ребенке и о старухе, которую съели внучки. Но наврал он не все от своего ума, а взял нечто и от других людей, среди которых оба эти рассказа сложились эпически, и в основу их фабулы легли некоторые действительные происшествия, которые в их натуральной простоте были гораздо более ужасны, чем весь приведенный вымысел с Ефимовой раскраской.
В действительности было вот что: довольно далеко от нас, – верст более чем за сто, – была деревня, где крестьяне так же голодали, как и у нас, и тоже все ходили побираться кто куда попало. А так как в ближних к ним окрестных селениях нигде хлеба не было, то многие крестьяне отбивались от дома в дальние места и разбредались целыми семьями, оставляя при избе какую-нибудь старуху или девчонку, которой «покидали на пропитание» ранее собранных «кусочков».