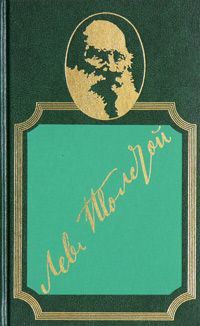Заговора, разумеется, никакого не было; но чины тайной и явной полиции старательно принялись за разыскивание всех нитей несуществовавшего заговора и добросовестно заслуживали свое жалованье и содержание: вставая рано утром, в темноте, делали обыск за обыском, переписывали бумаги, книги, читали дневники, частные письма, делали из них на прекрасной бумаге прекрасным почерком экстракты и много раз допрашивали Турчанинову и делали ей очные ставки, желая выведать у нее имена ее сообщников.
Министр был по душе добрый человек и очень жалел эту здоровую, красивую казачку, но он говорил себе, что на нем лежат тяжелые государственные обязанности, которые он исполняет, как они ни трудны ему. И когда его бывший товарищ, камергер, знакомый Тюриных, встретился с ним на придворном бале и стал просить его за Тюрина и Турчанинову, министр пожал плечами, так что сморщилась красная лента на белом жилете, и сказал:
– Je ne demanderais pas mieux que de lâcher cette pauvre fillette, mais vous savez – le devoir[1].
А Турчанинова между тем сидела в доме предварительного заключения и иногда спокойно перестукивалась с товарищами и читала книги, которые ей давали, иногда же вдруг впадала в отчаяние и бешенство, билась о стены, визжала и хохотала.
Получила раз Мария Семеновна в казначействе свою пенсию и, возвращаясь назад, встретила знакомого учителя.
– Что, Мария Семеновна, казну получили? – прокричал он ей с другой стороны улицы.
– Получила, – ответила Мария Семеновна, – только дыры заткнуть.
– Ну, денег много, и дыры заткнете, останется, – сказал учитель и, прощаясь, прошел.
– Прощайте, – сказала Мария Семеновна и, глядя на учителя, совсем столкнулась с высоким человеком с очень длинными руками и строгим лицом.
Но, подходя к дому, она удивилась, увидав опять этого же длиннорукого человека. Увидав, как она вошла в дом, он постоял, повернулся и ушел.
Марии Семеновне стало сначала жутко, потом грустно. Но когда она вошла в дом и раздала гостинцы и старику и маленькому золотушному племяннику Феде и приласкала визжавшую от радости Трезорку, ей опять стало хорошо, и она, отдав деньги отцу, взялась за работу, которая никогда не переводилась у ней.
Человек, с которым она столкнулась, был Степан.
Из постоялого двора, где Степан убил дворника, он не пошел в город. И удивительное дело, воспоминание об убийстве дворника не только не было ему неприятно, но он по нескольку раз в день вспоминал его. Ему было приятно думать, что он может сделать это так чисто и ловко, что никто не узнает и не помешает это делать и дальше и над другими. Сидя в трактире за чаем и водкой, он приглядывался к людям все с той же стороны: как можно убить их. Ночевать он зашел к земляку, ломовому извозчику. Извозчика дома не было. Он сказал, что подождет, и сидел, разговаривая с бабой. Потом, когда она повернулась к печи, ему пришло в голову убить ее. Он удивился, покачал на себя головой, потом достал из голенища нож и, повалив ее, перерезал ей горло. Дети стали кричать, он убил и их и ушел, не ночуя, из города. За городом, в деревне, он вошел в трактир и там выспался.
На другой день он пришел опять в уездный город и на улице слышал разговор Марии Семеновны с учителем. Ее взгляд испугал его, но все-таки он решил забраться в ее дом и взять те деньги, которые она получила. Ночью он взломал замок и вошел в горницу. Первая услыхала его меньшая, замужняя дочь. Она закричала. Степан тотчас же зарезал ее. Зять проснулся и сцепился с ним. Он ухватил Степана за горло и долго боролся с ним, но Степан был сильнее. И, покончив с зятем, Степан, взволнованный, возбужденный борьбой, пошел за перегородку.
За перегородкой лежала в постели Мария Семеновна и, поднявшись, смотрела на Степана испуганными, кроткими глазами и крестилась. Взгляд ее опять испугал Степана. Он опустил глаза.
– Где деньги? – сказал он, не поднимая глаз.
Она молчала.
– Где деньги? – сказал Степан, показывая ей нож.
– Что ты? Разве можно? – сказала она.
– Стало быть, можно.
Степан подошел к ней, готовясь ухватить ее за руки, чтобы она не мешала ему, но она не подняла рук, не противилась и только прижала их к груди и тяжело вздохнула и повторила:
– Ох, великий грех. Что ты? Пожалей себя. Чужие души, а пуще свою губишь… О-ох! – вскрикнула она.
Степан не мог больше переносить ее голоса и взгляда и полоснул ее ножом по горлу. – «Разговаривать с вами». – Она опустилась на подушки и захрипела, обливая подушку кровью. Он отвернулся и пошел по горницам, собирая вещи. Обобрав, что нужно было, Степан закурил папироску, посидел, почистил свою одежду и вышел. Он думал, что и это убийство сойдет ему, как прежние, но, не дойдя до ночлега, вдруг почувствовал такую усталость, что не мог двинуть ни одним членом. Он лег в канаву и пролежал в ней остаток ночи, весь день и следующую
Лежа в канаве, Степан не переставая видел перед собой кроткое, худое, испуганное лицо Марии Семеновны и слышал ее голос: «Разве можно?» – говорил ее особенный, ее шепелявящий, жалостный голос. И Степан опять переживал все то, что он сделал с нею. И ему становилось страшно, и он закрывал глаза и мотал своей волосатой головой, чтоб вытряхнуть из нее эти мысли и воспоминания. И на минутку он освобождался от воспоминаний, но на место их являлся ему сначала один, другой черный, и за другим шли еще другие черные с красными глазами и делали рожи, и все говорили одно: «С ней покончил – и с собой покончи, а то не дадим покоя». И он открывал глаза и опять видел ее и слышал ее голос, и ему становилось жалко ее и гадко и страшно на себя. И он опять закрывал глаза, и опять – черные.
К вечеру другого дня он поднялся и пошел в кабак. Насилу добрел до кабака и стал пить. Но сколько ни пил, хмель не брал его. Он молча сидел за столом и пил стакан за стаканом. В кабак пришел урядник.
– Ты чей будешь? – спросил его урядник.
– А тот самый, я вчерась у Добротворова всех перерезал.
Его связали и, продержав день при становой квартире, отправили в губернский город. Смотритель тюрьмы, узнав в нем прежнего своего арестанта-буяна и теперь великого злодея, строго принял его.
– Смотри, у меня не шалить, – нахмуря свои брови и выставив нижнюю челюсть, прохрипел смотритель. – Если только замечу что – запорю. От меня не убежишь.
– Что мне бегать, – отвечал Степан, опустив глаза, – я сам в руки дался.
– Ну, со мной не разговаривать. А когда начальство говорит, смотри в глаза, – крикнул смотритель и ударил его кулаком под челюсть.
Степану в это время опять представилась она и слышался ее голос. Он не слыхал того, что говорил ему смотритель.
– Чаво? – спросил он, опомнившись, когда почувствовал удар по лицу.
– Ну, ну – марш, нечего прикидываться.
Смотритель ждал буйства, переговоров с другими арестантами, попыток к бегству. Но ничего этого не было. Когда ни заглядывал в дырку его двери вахтер или сам смотритель, Степан сидел на набитом соломой мешке, подперев голову руками, и все что-то шептал про себя. На допросах следователя он тоже был не похож на других арестантов: он был рассеян, не слушал вопросов; когда же понимал их, то был так правдив, что следователь, привыкший к тому, чтобы бороться ловкостью и хитростью с подсудимыми, здесь испытывал чувство, подобное тому, которое испытываешь, когда в темноте на конце лестницы поднимаешь ногу на ступень, которой нету. Степан рассказывал про все свои убийства, нахмурив брови и устремив глаза в одну точку, самым простым, деловитым тоном, стараясь вспомнить все подробности: «Вышел он, – рассказывал Степан про первое убийство, – босой, стал в дверях, я его, значит, долбанул раз, он и захрипел, я тогда сейчас взялся за бабу»… и т. д. При обходе прокурором камер острога у Степана спросили, не имеет ли он жалоб и не нужно ли чего. Он отвечал, что ему ничего не нужно и что его не обижают. Прокурор, пройдя несколько шагов по вонючему коридору, остановился и спросил у сопутствующего ему смотрителя, как себя ведет этот арестант?
– Не надивлюсь на него, – отвечал смотритель, довольный тем, что Степан похвалил обращение с ним. – Второй месяц он у нас, примерного поведения. Только боюсь, не задумывает ли чего. Человек отважный и силы непомерной.
Первый месяц тюрьмы Степан не переставая мучался все тем же: он видел серую стену своей камеры, слышал звуки острога – гул под собой в общей камере, шаги часового по коридору, стук часов и вместе с тем видел ее – с ее кротким взглядом, который победил его еще при встрече на улице, и худой, морщинистой шеей, которую он перерезал, и слышал ее умильный, жалостный, шепелявый голос: «Чужие души и свою губишь. Разве это можно?» Потом голос затихал, и являлись те трое – черные. И являлись всё равно, закрыты или открыты были глаза. При закрытых глазах они являлись явственнее. Когда Степан открывал глаза, они смешивались с дверями, стенами и понемногу пропадали, но потом опять выступали и шли с трех сторон, делая рожи и приговаривая: покончи, покончи. Петлю можно сделать, зажечь можно. И тут Степана прохватывала дрожь, и он начинал читать молитвы, какие знал: «Богородицу», «Вотче», и сначала как будто помогало. Читая молитвы, он начинал вспоминать свою жизнь: вспоминал отца, мать, деревню, Волчка-собаку, деда на печке, скамейки, на которых катался с ребятами, потом вспоминал девок с их песнями, потом лошадей, как их увели и как поймали конокрада, как он камнем добил его. И вспоминался первый острог, и как он вышел, и вспоминал толстого дворника, жену извозчика, детей и потом опять вспоминал ее. И ему становилось жарко, и он, спустив с плеч халат, вскакивал с нары и начинал, как зверь в клетке, скорыми шагами ходить взад и вперед по короткой камере, быстро поворачиваясь у запотелых, сырых стен. И он опять читал молитвы, но молитвы уже не помогали.