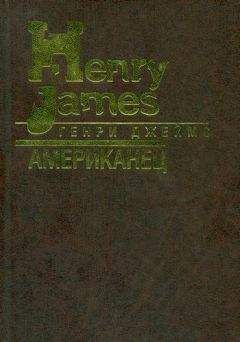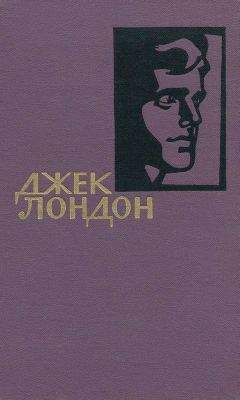Ньюмен всегда любил общество женщин, а теперь, живя вдали от родных краев, без привычных занятий, охотно восполнял образовавшийся пробел. Он проникся большой симпатией к миссис Тристрам, она искренне отвечала ему тем же, и после их первой встречи он проводил в ее гостиной долгие часы. После двух-трех бесед они стали закадычными друзьями. У Ньюмена была своеобразная манера вести себя с женщинами, и со стороны дамы требовалась известная догадливость, дабы понять, что он ею восхищается. Он не отличался галантностью в обычном смысле этого слова — не расточал комплименты, не сыпал любезностями, не произносил речей. Если в разговорах с мужчинами он любил прибегать к тому, что называют подтруниванием, то, садясь на диван рядом с особой прекрасного пола, преисполнялся величайшей серьезности. Он не был застенчив, а так как неловкость возникает в борьбе с застенчивостью, не был и неловким; серьезный, внимательный, смиренный, часто молчаливый, он попросту таял от восторженной почтительности. Такое отношение к прекрасному полу не объяснялось какими-либо теориями, не было в нем и особой сентиментальности. Ньюмен никогда не задумывался о «положении женщины в обществе», а к образу «президента в юбке» не испытывал ни симпатии, ни антипатии. Подобные мысли вообще не приходили ему в голову. В его отношении к женщине проявлялись все лучшие черты его доброго характера; оно проистекало из инстинктивной и истинно демократической убежденности, что каждый имеет право жить, как ему хочется. Если любой оборванный нищий имеет право на постель и стол, право зарабатывать деньги и участвовать в выборах, то уж женщин, которые куда слабее и чья физическая хрупкость взывает к опеке, следует бережно поддерживать за счет общества. Для этой цели Ньюмен был готов платить любой налог, пропорциональный его доходам. Более того — Ньюмен в жизни не прочел ни одного романа, и потому ставшие уже традиционными представления о женщинах он составил для себя сам. Его поражала их проницательность, их глубина, их такт, меткость их суждений. Они казались ему утонченно мыслящими созданиями. Если верно, что здесь, на нашей грешной земле, каждый, чем бы он ни занимался, должен опираться либо на религию, либо, во всяком случае, на какие-то идеалы, то Ньюмен черпал вдохновение в неясных мечтах о благородном светлом челе дамы, которой когда-нибудь посвятит все, чего достиг.
Ньюмен подолгу выслушивал советы миссис Тристрам — советы, которых, надо сказать, он никогда не просил. Да и с какой стати он стал бы спрашивать совета, если знать не знал, что такое трудности, и, следовательно, ему ни к чему было искать средства их преодолевать. Окружавший его сложный парижский мир казался ему совсем простым; он напоминал великолепный, захватывающий спектакль, но не будил воображения и не вызывал любопытства. Засунув руки в карманы, Ньюмен добродушно наблюдал за происходящим, стремясь не пропустить ничего заслуживающего внимания, кое во что пристально вглядывался, но ничего не примерял на себя. «Советы» миссис Тристрам были частью спектакля, наиболее интересной среди бесконечных сплетен, которые она ему пересказывала. Ньюмену нравилось, как она судит о нем самом, он считал это проявлением милой сердечности, но даже и не помышлял следовать ее рекомендациям, забывая о них, как только уходил. Что же касается миссис Тристрам, то она очень увлеклась Ньюменом, давно уже ее мыслями не владел столь интересный объект. Она хотела что-нибудь для него сделать — сама не зная что. Он обладал всем в таком избытке — был так богат, так здоров, так дружелюбен, так добродушен, что она ничего не могла придумать, хотя он постоянно занимал ее воображение. Единственное, что она пока могла для него сделать, — это выражать ему свою симпатию. Она говорила ему, что он «ужас какой западный», но первая часть этого определения звучала несколько неискренне. Она всюду водила его с собой, познакомила с полусотней людей и упивалась им, как трофеем. Ньюмен не отвергал ни одного ее приглашения, пожимал руки всем и каждому, и казалось, ему равно неведомы и робость, и восхищение. Том Тристрам сетовал на ненасытность жены и жаловался, что не может провести со старым другом и пяти минут. Знай он, как обернется дело, он ни за что не привел бы Ньюмена на Йенскую авеню. В прежние дни хозяин дома и наш герой не были близко знакомы друг с другом, но теперь Ньюмен, помня впечатление, сложившееся у него от встречи в Лувре, и отдавая должное миссис Тристрам, которая никоим образом не посвящала его в свои мысли, но чей секрет он быстро разгадал, понимал, что ее супруг — довольно ничтожный экземпляр человеческой породы. В двадцать пять Тристрам был славным малым и в этом смысле не изменился, но от мужчины его возраста ожидают чего-то большего. Он слыл человеком светским, но это обстоятельство вряд ли заслуживало внимания — с равным успехом можно хвалить губку за то, что она разбухает, когда попадает в воду, к тому же его светскость не отличалась особым блеском. Великий болтун и сплетник, он ради красного словца не пожалел бы ни мать, ни отца. Ньюмен по старой памяти хорошо к нему относился, но не мог не видеть, что Тристрам на поверку весьма легковесен. Все его интересы сводились к тому, чтобы сыграть партию в покер у себя в клубе, знать по именам всех мало-мальски известных кокоток, пожимать всем руки и баловать свой нежный пищевод шампанским и трюфелями, да еще создавать беспокойное бурление и столкновения среди членов американской колонии Парижа. Он был отъявленный бездельник, высокомерный, чувственный. Нашего друга раздражал тон, каким этот сноб говорил об их родной стране; Ньюмен никак не мог взять в толк, почему Соединенные Штаты недостаточно хороши для мистера Тристрама. Сам он никогда не принадлежал к рьяным патриотам, но ему было досадно, что к его стране относятся не лучше, чем к какому-то оскорбляющему ноздри вульгарному запаху, и в конце концов он взорвался и стал утверждать, что Америка величайшая в мире страна, что она способна заткнуть всю Европу за пояс и что американца, который плохо о ней отзывается, следовало бы отправить домой в наручниках и на всю жизнь поселить в Бостоне. В устах Ньюмена это звучало крайне мстительно. Отчитывать Тристрама было удобно — тот не помнил зла и твердил свое: Ньюмен должен заканчивать вечера в Западном клубе.
Кристофер Ньюмен часто обедал на Йенской авеню, и каждый раз хозяин дома стремился как можно скорее увести гостя из-за стола и даже из дома. Миссис Тристрам горячо протестовала и заявляла, что ее муженек всячески изощряется, лишь бы ей досадить.
— Что ты, душенька, даже и не пытаюсь, — отвечал Тристрам. — Я знаю, ты меня и так не выносишь.
Ньюмену было неприятно наблюдать подобные сцены между супругами, и он не сомневался, что либо тот, либо другой из них крайне несчастлив. И подозревал, что это не мистер Тристрам. Перед окнами комнаты миссис Тристрам был балкон, на котором она любила сидеть июньскими вечерами, и Ньюмен откровенно заявлял, что предпочитает этот балкон клубу. Балкон обрамляли сладко пахнущие растения в кадках, сверху можно было смотреть на широкую улицу, а вдали в свете летних звезд виднелась громада Триумфальной арки и украшающие ее фигуры героев. Иногда Ньюмен выполнял данное мистеру Тристраму обещание и, посидев полчаса, отправлялся в клуб, а иногда забывал. Хозяйка дома засыпала его вопросами о нем самом, но эта тема не вызывала у него отклика. Он не был, что называется, «сосредоточен на себе», но, когда чувствовал в ней искренний интерес, делал поистине героические усилия, чтобы удовлетворить ее любопытство. Он подробно рассказывал о разных делах, в которых принимал участие, и потчевал ее анекдотами из жизни Запада; сама миссис Тристрам была из Филадельфии и, проведя восемь лет в Европе, изображала томную жительницу Восточного побережья. Однако во всех его рассказах героем всегда выступал преимущественно кто-нибудь другой, себя же он далеко не всегда выставлял в благодатном свете, а собственного участия в событиях, о которых вспоминал, касался лишь мимоходом. Миссис Тристрам особенно жаждала выведать, был ли он когда-нибудь влюблен — по-настоящему, страстно, — и, не удовлетворившись его отговорками, наконец спросила напрямик. Ньюмен помедлил и заявил:
— Нет!
Она сказала, что рада это слышать, так как получает подтверждение того, в чем не сомневалась: чувствами и страстями он не обременен.
— Не обременен? — переспросил он очень серьезно.
— Вы так считаете? А как вы узнаете, способен человек на чувства или нет?
— Не могу понять, какой вы, — ответила миссис Тристрам. — То ли очень простой, то ли очень сложный.
— Я — очень сложный. Сомневаться не приходится.
— Мне кажется, скажи я вам, сделав соответствующую мину, что вы — человек, лишенный чувств, вы бы с готовностью мне поверили.
— Соответствующую мину? — повторил Ньюмен. — Попробуйте — и посмотрим.