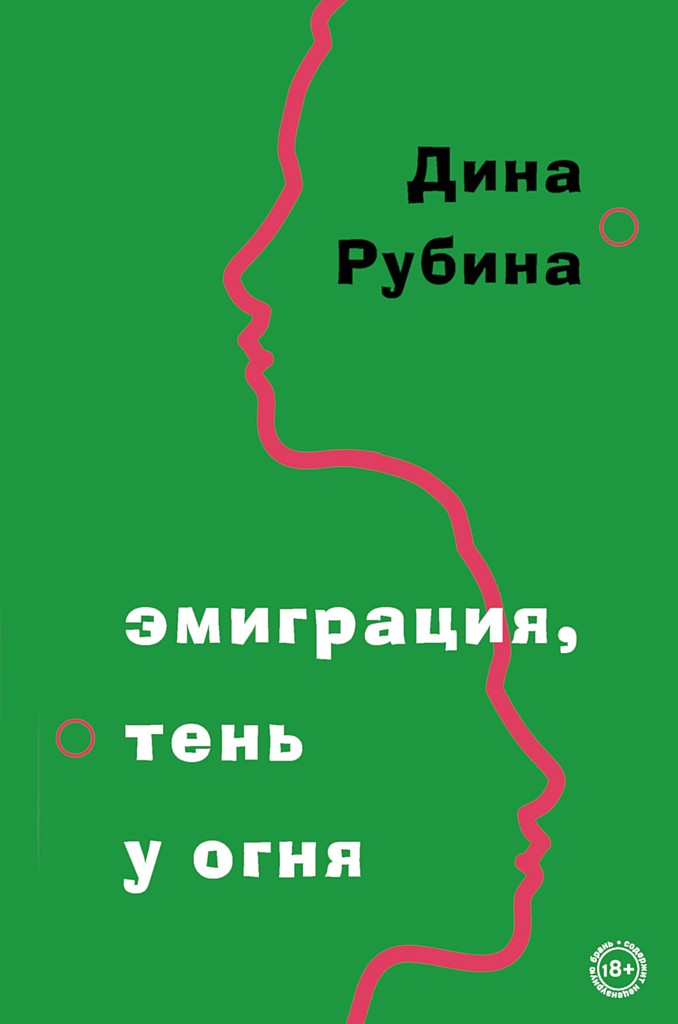вы милая, вы просто прелесть, дайте ручку, — и перегнувшись через стол, картинно приложился к моей ручке, что ни в какие ворота не лезло, если взглянуть на дело с точки зрения религиозных установлений. Но Христианский и сам ни в какие ворота не лез, он и ортодоксом был необычным, и даже фамилию имел в этой ситуации абсолютно невозможную, вероятно, потому и свой журнал «Дерзновение» издавал под псевдонимом Авраам Авину [1]…
После сцены лобызания ручки мы разошлись по кабинкам. «Надо же и работать, война, не война», — сказал Яша, достал из кейса банан, свесил с него лоскуты кожуры на четыре стороны и отхватил сразу половину. Затем, примерно часа два, он мешал всем работать, продолжая лекцию на военные темы, время от времени останавливая сам себя ликующим возгласом: «Но не за то боролись!»
Отвлек его только появившийся Фима Пушман, секретарь Иегошуа Аписа, связник или, как объяснила мне Рита, «челнок» между мозговым центром фирмы, то есть Гошей, и ее рабочим корпусом, то есть нами тремя. Мозговой центр помещался в захламленной двухкомнатной квартирке, которую снимал Всемирный еврейский конгресс где-то на улице Бен-Иегуда.
Фима Пушман, веснушчатый верзила, еврейский раздолбай лет сорока, в вечно спадающих штанах, вечный чей-то секретарь, отъявленный неуч и бездельник, член, конечно же, Еврейского конгресса, точнее говоря, конгрессмен, — Фима Пушман в России был замечательным фотографом. На этом поприще он обнаружил такой талант, что, говорят, уговаривал живых людей фотографироваться на их будущие могильные памятники.
Говорил он тягучим поблеивающим тенором, растягивая слова, но не так, как Рита, а словно бы, начав фразу, он не представлял, к чему это затеял и как быть с этой фразой вообще…
Рита уверяла, что у Фимы мыслительный аппарат не связан с речевым.
Тем не менее Фима Пушман был очень пунктуальным человеком. На встречу приходил минута в минуту… только не туда, где уговаривались встретиться. Рассылая бандероли с журналами «Дерзновение», надписывал их изумительным каллиграфическим почерком… но часто путал местами адреса отправителя и получателя, вследствие чего мы получали наши же журналы наложенным платежом, да еще расписывались в получении.
Он педантично оплачивал в банке счета фирмы, но на обратном пути забывал где-то сумку с квитанциями, бумажником, рукописями и всеми чеками для выплаты жалованья сотрудникам фирмы на сумму в несколько десятков тысяч шекелей.
Словом, можно уверенно сказать, что, уволив Фиму Пушмана, Всемирный еврейский конгресс и лично Иегошуа Апис значительно сократили бы свои убытки.
Яша презирал Фиму Пушмана и страшно унижал, как унижал он всех, кто не мог ему ответить. Фима Яшу ненавидел, и на каждое ядовитое замечание того огрызался просто и тупо, как двоечник с последней парты. Бывало, Фима как простой курьер раз пять на день появлялся у нас, подтягивая штаны и затевая попутно нечленораздельные беседы, — это Яша заставлял его носить на Бен-Иегуду и обратно какие-нибудь ничтожные бумажки. А ведь Фима не подчинялся ему ни в коей мере, Фима был членом Еврейского конгресса и собственностью Иегошуа Аписа. Да, он был бессловесным рабом Гоши, ибо тот вывез его из России на гребне какого-то международного скандала (Гоша, благодетель, многих вывез; в те годы он был духовным воротилой крупных отказнических банд) — привез и пристроил его в конгресс, так что Фима и сыт оказался, и при деле…
…Короче, явился Фима Пушман с рукописью от Иегошуа Аписа, с пачкой печенья и банкой хорошего кофе, которые и вручил «девушкам», нам, то есть, весьма галантно. Вообще, по словам Риты, бабы Фиму любили. За что его любить, энергично отозвалась на это Катька, за бороденку фасона «жопа в кустах»? Бороденку и впрямь Фима отрастил бедную, мясистые щеки просвечивали сквозь чахлую шкиперскую поросль, а если еще добавить, что выражение лица у Фимы во всех случаях оставалось лирическим, то придется согласиться, что с точки зрения литературного образа Катькино определение хоть и грубоватое было, но меткое.
— А я сейчас одного знакомого встретил, из Москвы, — начал Фима, усаживаясь рядом с Ритой и подперев толстую щеку рукой. После этих слов он задумался, видно прикидывая, что дальше-то по этому поводу сказать и стоит ли вообще продолжать… Потом решил, что — стоит, и добавил: — Он был самым главным в метро…
— Лазарем Кагановичем? — невозмутимо спросила Рита, не повернув головы от дисплея.
— Нет, зачем… Его зовут Володей…
Возник Христианский с толстенной рукописью в руках и сказал мне:
— Вот, получите. Это произведение вы должны вылизать до последней буковки, сделать из него «Войну и мир».
— А что это? — спросила я.
— Бред сивой кобылы, и очень увлекательный, просто детектив. Риточка, — позвал он, — вы не находите, что Мара очень увлекательно врет?
— Пожалуй, — помолчав, отозвалась Рита, — но темна, как шаман в Якутии.
— А кто такая Мара? — спросила я.
Из Ритиной кабинки выглянул удивленный Фима Пушман — поглядеть на меня.
— Вы что — не слыхали о Маре Друк? Это известная отказница.
Тут Яша, приревновав Фиму к биографии Мары, сам начал рассказывать историю чудесного избавления семейства Мары Друк на личном вертолете миллионера Буммера, то и дело вставляя свое «но не за то боролись», хотя можно предположить, что десять лет сидевшая в отказе Мара боролась именно за то.
Впрочем, биография Мары занимала его недолго; его охотничий интерес переключился на вечную, тупо покорную дичь, Фиму Пушмана.
— А скажите-ка, Пушман, конгрессмен вы мой, — поигрывая пальцами по ремням портупеи (так пианист бегло пробует клавиатуру), начал Яша, — правда ли, что в городе Горьком особенным успехом у населения пользовались ваши праздничные снимки покойников в гробу?
— Они не были покойниками! — встрепенулся Фима.
— Я и говорю: живой человек выглядит в гробу привлекательней, чем дохлый, это вы неплохо придумали. И хорошо шел клиент?
— Я профессионал! — с вызовом ответил Фима, уже почуявший, что Христианский взялся за свое. — Клиенты моей работой были довольны.
— Конечно! — в упоении заорал Христианский, закатывая глаза. — Я ни в коем случае не умаляю вашего профессионализма! Просто мне интересно, платил-то кто: родственники усопшего или сам покойный?
— Платил покойник, — скромно подтвердил Фима и, запоздало осознав Яшино коварство, отчаянно восклик- нул: — Но он был живой!
На какое-то мгновение этот запредельный бред показался мне диалогом из пьески авангардного драматурга.
Вдруг в своей кабинке захохотала Катька. Будучи от природы гораздо сообразительней, чем я, она и поняла все быстрее: талантливый фотограф Фима Пушман сумел поставить на твердые рельсы обычай рабочих масс города Горького фотографироваться всей семьей с дорогим усопшим в гробу. И многих потенциальных усопших он уговаривал сняться заранее в кругу семьи,