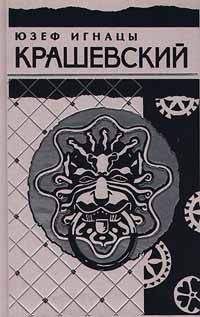веселости. Поминутно останавливались, перекладывались, доставали съестное или что-нибудь из платья, срывали для ребенка цветы по дороге, приносили ему воды. Добрые слуги, привязанные к своей госпоже, старались всячески угождать его желаниям, часто самым необыкновенным.
Старый Матвей, некогда кучер, пока было на чем разъезжать, а потом простой возница, не намерен был даже возвращаться в Секиринок, хотя оставил там братьев и старуху мать. Он почитал своим долгом служить, пока хватит сил, госпоже и ее сыну, которых любил столько же, сколько умел любить. Это был один из тех людей, которые привязываются к господам, как к родным, и готовы были платить им, чтобы только не прогоняли их от себя. Старик был добрая душа, но большой ворчун, так что с покойником позволял себе спорить, укорял его в глаза, хотя это делалось единственно от усердия. Скарбникович терпел с улыбкой замечания старого слуги, а вдова всегда платила за них рюмкой водки и полдником. Матвей имел очень важную наружность, гордо холил длинные седые усы, которые иногда чернил и закручивал кверху; лоб у него был всегда в морщинах, лицо угрюмое, взгляд грозный, так что с первого взгляда он казался злым и запальчивым человеком, тогда как в самом деле не было добрей его существа и большего говоруна, и если ему только давали досыта наворчаться, наговориться и накричаться, то больше ничего ему и не нужно было. За недостатком людей он говорил вслух с своими лошадьми или с самим собою, и все это не иначе, как сплевывая и бранясь. Еще водился за ним тот недостаток, что он почитал важным делом употребление и производство нюхательного табака, с которым ничто не могло равняться. Он был уверен, что его способ приготовления этого живительного вещества превосходит все другие, и что ни один табак хотя бы его привезли из Парижа, не имел такого запаха, цвета и вкуса. Если он удостаивал понюхать из чужой табакерки, то для того только, чтобы презрительно усмехнуться и одолжить потом приятеля своим табачком. Этому славному способу приготовлять табак он научился у одного странствующего бернардинского монаха и хранил его, как величайший секрет. Все слуги в Секиринке уважали Матвея как нельзя больше, а в дороге теперь он был прямым предводителем. Он с необыкновенною важностью погонял трех тощих кляч, ворча себе что-то под нос, помахивая батогом и разговаривая с лошадьми разными голосами. Иногда он обращался с какою-нибудь затейливой фразой к госпоже своей или уничтожал одним взглядом Дороту, на которой вымещал свою досаду, как и на лошадях; а на все жалобы госпожи и панича помочь беде предлагал единственное средство — табак, которым был готов подчивать и маленького Собеслава.
— Дитя спать хочет, понюхал бы бернардинки, так и сон пройдет, — говорил он.
Хочется есть — он предлагал свой рожок с табаком; пить — рожок; словом, на все у него был один ответ: рожок и табак. И неудивительно, потому что Матвей почитал табак средством ото всех болезней и горестей. От лихорадки он давал его в водке; от головных болей также давал табак, раны засыпал табаком, словом, советовал его всем и во всякое время. Несколько раз в дороге, видя, что пани горюет и плачет, он подавал Дороте свой рожок, делая знак, чтобы она передала госпоже, и когда Дорота отвергала его предложение, он пожимал плечами и бранился.
Дорота, любимица госпожи и нянька маленького Собеслава, также очень удачно была выбрана в подруги изгнания и бедности. Трудно было найти сердце добрее. Она жила своим воспитанником, и не знаю, была ли в состоянии любить горячее свое собственное детище. Это была уже немолодая, сильная, плечистая женщина с грубыми чертами лица, изуродованного оспою, румяная, живая, говорливая, трудолюбивая. Как Матвей всегда был нахмурен, так, напротив, она была обыкновенно весела и приветлива, и ничто не могло надолго затмить ясности ее характера. Едва взгрустит и заплачет, уже бежит к работе и поет, как ни в чем не бывало. Работа была для нее животворной стихией. Никогда она не оставалась ни минуты праздною: даже и в дороге вязала чулок, хотя часто дремала над этим непривычным делом и желала работы более тяжелой и размашистой. В доме она была всем: кухаркой, служанкой, ключницей, нянькой, садовником и не знаю еще чем, и постоянно жаловалось, что ей нечего делать. Ее видно было всюду, в амбаре, в погребе; ее ключи и резкий веселый голос слышны были в комнате; вдруг она очутилась в кухне, летит в сад, а часто еще сбегает и в поле посмотреть, не ленятся ли работники. С Матвеем при всем взаимном уважении их друг к другу, воевала она беспрестанно. Дорота упрекала его, что все время свое он убивает на поливание и подрезывание табака; он называл ее всеместною егозою; но где дело касалось господской выгоды, оба ладили совершенно.
Таков был двор бедной вдовы, сопутствовавший ей добровольно. Кони, старый Шпак, коренной, и две кобылы, одна гнедая, а другая гораздо меньшего роста, называвшаяся Белкою, в краковских шлейках кое-как исправленных стараниями Матвея, везли желтую, связанную во многих местах таратайку. Андрей, мужик, который должен был воротиться из Люблина в деревню, был погонщиком телеги, которая везла пару сундуков, несколько фамильных портретов, игрушки маленького Собеслава и немного круп, муки и гороху в узлах. Сверх этого таинственного скарба, Дорота привязала клетку с пятью любимыми курами и желтым петухом. Таратайка и телега подвигались вперед чрезвычайно медленно, так что иной день делали не более пяти миль. Матвей с приличной важностью правил лошадьми, оживляя их более голосом, нежели батогом.
— Стыдились бы, старые! Эй, Шпак, ты думаешь, что я не вижу, — говорил он, доставая из кармана свой рожок: — будет и батог в работе! Дышло тебя опереживает. Вот же тебе за это! Ага, видишь, что я не слеп. Эй ты, вытягивай! Белка почтенная лошадка. Вот вам пример: одна таратайку тащит…
Так говоря, закладывал он батог и вожжи под мышку, или под ногу и принимался за табак, а между тем посматривал исподлобья на лошадей, которые так уже привыкли уменьшать шаг, когда он доставал рожок с табаком, что всякий раз едва не останавливались; но лишь только он спрячет рожок, они спешили предупредить его увещания и пускались кое-какою рысцою. Понюхав табаку, он делался веселее и оборачивался к Дороте, если она дремала, подносил ей к носу щепотку бернардинца, а если нет, то ворчал на нее, сам не зная за что. Дорота отвечала на его ворчание веселым смехом и еще более подстрекала его