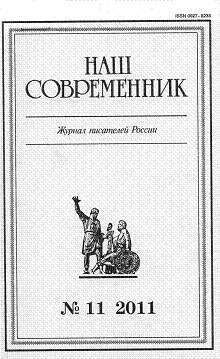Танич.
— Да мне хоть Танич, хоть Круг, хоть Звездин-Северный. Слышь, потуши конфорку. Прошу. Пожалуйста.
— А вообще, уважаю, — сказал шеф, всё также не поворачивая головы. — Вежливо просишь, всё такое. А чего не любишь блатняк?
— Не люблю. Ложь сплошная.
— А в чём?
— Во всём. Мать-отца любим, молимся на них, а из зоны в зону шныряем, и родители на грязных простынях умирают… Все вокруг сволочи, посадили ни за что и всё прочее…
— A-а, понял… Это вроде как «Калина красная», так, что ли?
— Да при чём тут «Калина»! Хоть Танич этот до самого конца кричал, «я политический». А на деле пять лет лагерей за пьяную драку в порту, ведь это скрывают. «Русский радиоприемник поругал, а немецкий похвалил, и сразу посадили» — это официальная версия Танича, для дураков. А папа у него, у этого яростного борца с режимом, знаешь, кто был?
— Кто?
— Исак Танхилевич, заместитель начальника Мариупольской Ч.К.
— Да ты чё, парень, ты откуда, с Луны свалился, что ли? Да в самой Москве в Кремлёвском зале шансон слушают — полные залы. Полковники, генералы… А подтанцовка-то какая… — это просто балет, ты хоть видел? С блатными прикидами, в лепеньках тузовых.
— Видел, — ответил Юра угрюмо. — Что да, то да. И полковники в зале, и генералы МВД. И переодетые в офицерское подпевают блатному солисту, бородатому, небритому, и не зазорно…
— Точно, сидишь и думаешь: почему все они по эту сторону колючки, а не по ту? — шофёр с интересом стал бросать быстрые взгляды на Юру, засмеялся в профиль за баранкой, показывая рондолевый, под золото, оскал зубов.
В автобусе стало трудно дышать, и пьяные мужики совсем очумели. Ходили курить и мочиться к задним дверям.
— Вы бы хоть детей посовестились, — укоряли их бабы.
Тот, что был моложе, с волосами грязными, ниспадавшими до плеч, вдруг запел:
Издалёка, с Колымского края
Шлю тебе я, Маруся, привет.
Как живёшь ты, моя дорогая,
Напиши поскорее ответ.
Мужик постарше вдруг соскочил с сиденья, хватаясь руками за перекладины, наступая кирзовыми сапогами на ноги соседям, стал подниматься, кренясь, вытягиваться, но повалился на старух и ребятишек. Между тем голос молодого набирал силу, он завозился, вставая, и тоже запел, поддерживая первого. Нездешней тоской стушевалось его лицо, челюсть отвалилась, жилы на висках набрякли, желваки заходили под кожей щёк, продубленных чифиром до смуглости:
Вы гуляйте, девахи, на воле,
Приходите вы к нам в лагеря, —
Вам на воле цена три копейки,
В лагерях вам дадут три рубля…
— Господи, — взмолилась старушонка, крепко сжимая ведёрко с лисичками и маслятами, припорошенными сверху листьями дикой смородины, душицы. — Господи, хоть бы ноне добраться до дому без греха…
Всё на старушке было чисто, ладно, домовито: и чёрный платок в белую горошину, прилаженный острым коньком на голове, и юбка, натянутая на коленях:
— Ну и время пришло: по лесу скитаюсь, индо в раю, ни зверя лесного, ни лешего, ни василиска — никого не боюсь. А как в автобус — за нож вострый! А всё за грехи наши, за безделье, за слова нечистые… Ишь, ведь, вовсе не стоит, да ещё горлом давит, поносит. — И она быстро-быстро закрестилась часто и мелко: — Царица Небесная, спаси и сохрани. Оборони!
Юра, всё еще не оправившийся от ссоры с этими головорезами, стоял в тесноте возле выхода спиной к спине с какой-то грузной женщиной. Грудь его давила никелированная стойка, дыхание спирало. И глядя на этот разгул пьяных, он внутренне удерживал себя, уговаривал не связываться с ними. Заточку, финку или шабер блатные никогда не показывали. Это для зэка «западло». «Предупреждать — дело ментов», — просто ткнут в бок, под ребро, а чаще в спину, и всё, «ваши не пляшут».
— Говорят, что в Финляндии в таких случаях останавливают автобус и пьяных высаживают среди дороги… — нарочно громко, рассчитывая на поддержку, заговорила женщина неизвестно для кого. — А как в других цивилизованных странах?
— Что ты, гонишь порожняк в натуре… Ты хавальник закрой, а то!..
…В стенку, отделяющую шофёра от салона, заколотили ногами. Шофёр остановил автобус, вошёл в салон. Протолкавшись к зэкам, он ровным невозмутимым голосом проговорил что-то на фене. И заключил:
— Не прекратите ор — высажу. Вылетите как голуби, понятно? До Байдана базар держать не буду, я за баранкой. Баланду травить тёщам будете. А мне восьмерить и втирать нечего… — он сказал громко и без волнения в тишине замершего салона какое-то вовсе непонятное слово, — если только можно назвать салоном вдоль и поперёк искромсанное чрево «пазика».
— Но всё, всё, шеф… Ув-вжуха, шеф, ты мне я тебе и разбежались. Запара пришла. Кумар накрыл ребят, понимаешь, не слепой, — забормотал пожилой, обращаясь уже не к шофёру, а к своей ватаге, ероша серую щетину на бороде…
И этот внезапный тон, ровный и невозмутимый, тон сильного и справедливого, остановил пьяных. Они смолкли, ладком уселись и разом задремали.
Автобус из речного распадка, теряя скорость, вкатился на вершину пологого холма. В пыльных окнах показалась колокольня без креста и обшивки на куполе. Чернели глазницы узких окон, тучи ворон вились над церковкой. Вытоптанный, выбитый скотиной выгон был пуст и гол. Валялись возле дороги старые сапоги, калоши и сгнившие в прах какие-то лохмотья, гнутая арматура, обрывки буксирного троса. Замелькали деревца, и за ними медленно пошли дома с жестяными крышами, сиренью, утлой рябиной в палисадниках, с колодцами во дворах.
Автобус остановился перед магазином. Как и по всей России, здесь стояли за гречкой и сахаром для самогона, который вот-вот должны были подвезти: и женщины, и старухи. Перед дверью ругались и для порядка записывали-выводили и выкликали номера на руках.
Вывалившие из автобуса помятые пассажиры тотчас один за другим стали пристраиваться к этой очереди. Пьяные мужики мучительно долго продирали глаза и выбирались. Обнявшись, двинулись они к дверям магазина.
Юра Хломин помог аккуратной старушке выйти из автобуса, вытащил ведёрко и поставил на траву, закиданную мелкими окурками. На удивление разговорчивая старушка спросила:
— Ты чей же будешь, сынок? Что-то не угадаю тебя…
Юра спросил, как пройти на улицу Луговую.
— Да ты к кому, — всё пытала бабка.
Юра стал было рассказывать, живописуя лицо, протез выше левого колена и вместо пальцев левой руки — култышки. Бабка даже обиделась, когда Юра назвал имя и отчество.
— Евсеич-то, — недовольно пропела она. — Да как же я его не знаю-то?! Ой, малый, некошной. Да мы с ним