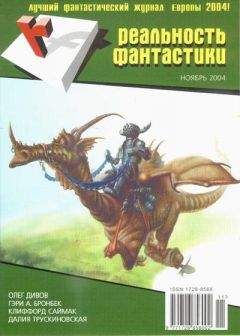Элем отозвался при мне более жестко, при том сказал это Тенгизу Абуладзе в глаза, тут он обычно не церемонился. Что-то вроде того, что старомодно, так сейчас в мире не снимают. "Вот только эта сцена с бревнами..." и т. д.
Было это буквально сразу после съезда, в первые же дни нашего секретарства. Назавтра Элем поехал в ЦК защищать картину.
Я думаю, он понял - и, к счастью, на это понадобился всего один день,- что собственные режиссерские пристрастия и амбиции должны быть на время забыты.
В те же дни, помню это, на банкете у Резо Чхеидзе по случаю его Ленинской премии, в присутствии сотни гостей, главным образом, московских грузин, Элем произнес длинную речь в честь Тенгиза и его картины, торжественно, в несвойственной ему манере обещав, что разобьется в лепешку, чтобы великий фильм "Покаяние" увидел свет. Мы все это оценили.
Не знаю подробностей - какими уж там аппаратными способами он этого добивался, кого и как убеждал. Дело было непростое. До сих пор речь шла о фильмах, оказавшихся на полке, в общем-то, по недоразумению, по чьему-то идиотскому капризу. В той же "Агонии" самого Климова, при всей ее художественной мощи, никакой политической крамолы не было; если разобраться, картина выдержана в духе советской историографии - что уж такого вредного они в ней усмотрели? Или в той же "Теме" Глеба Панфилова. Или в скромных и прекрасных "Долгих проводах" Киры Муратовой. Может быть, только то, что - прекрасные? Незаурядность художественная была, вероятно, сама по себе крамолой? Что-то "не наше"!
Другое дело - "Покаяние". Здесь требовалось набраться мужества и сказать: осуждаем сталинщину. Со времен Хрущева никто этого не говорил. Сама тема была изъята из обращения. Сталина не было. Хватит ли воли нынешним властям? Фильм Абуладзе ставил их перед ответственным выбором. Да или нет?
И слово было сказано. Правда, как всегда, не обошлось без эвфемизмов. Это, оказывается, не о Сталине фильм Абуладзе. Это - о Берии. Взгляните на героя, на его пенсне - узнаете? Мы осуждаем бериевщину, политические репрессии, диктатуру. Так и условились. Фильм вышел на экраны.
Произошло это при поддержке Александра Николаевича Яковлева и, не удивляйтесь, Егора Кузьмича Лигачева. Такие были времена.
Я помню этот вечер, премьеру в Доме кино, нахожу и запись о ней в старом дневнике. Толпы на улице, милиция, загородки. Оба зала переполнены, сидят на ступеньках. Мы присутствуем при событии чрезвычайного значения. Легендарный фильм, существовавший полуподпольно, прорвал глухую блокаду и пришел к зрителю, и это означает... это многое означает...
Успех ошеломляющий. Как понять, чего здесь больше - художественного ли восторга, зрительского переживания или острого чувства сенсации, того, что происходит сейчас с тобою самим в этом переполненном зале?
Сам фильм тем не менее впечатляет. Он, быть может, действительно старомоден, и "сейчас так не снимают". Ему нет до этого никакого дела. Он снят безрассудно, как в первый раз. Он даже слишком прямолинеен на чей-то вкус. Добро и зло. Тьма и свет. Злодейство, доведенное до гротеска. Он простодушен, как все великое. В нем страсть. Что еще сказать?
Тенгиз где-то здесь, в сторонке, вот он, гордо-молчаливый Тенгиз, мой старинный друг, нищий и важный, исполненный достоинства, каким я его помню. Когда-то ездил к нему в Тбилиси писать русский текст "Бабушки, Илико и Иллариона", собирались делать вместе "Висрамиани", грузинский эпос, давний его замысел - так и не собрались. Упрямый и деликатный, скромный, вероятно, из гордости, в чем-то недалекий, как мне казалось, но обладавший идеально всем тем, что потребно таланту режиссера. Он и сейчас немногословен, не суетится, не прыгает до потолка от счастья, воспринимает происходящее, скорее всего, как должное. Я сказал ему в избытке чувств что-то вроде того, что, мол, как у тебя хватило сил снять такой фильм, заведомо зная, что он вряд ли когда-нибудь увидит свет? Тенгиз отвечал невозмутимо: как я мог его не снять, я ведь задумал трилогию - "Мольба", "Древо желания", а это третья часть...
Это были годы "Огонька" и "Московских новостей", небывалое, неповторимое время. Вечера по пятницам принадлежали программе "Взгляд" молодые умные ребята, неизвестно откуда взявшиеся, в меру наглые, находчивые и бесстрашные, свободные - как с другой планеты - дружно и беззастенчиво вразумляли всю огромную державу от Москвы до самых до окраин, преподнося уроки гласности, перемежая их к тому же образчиками чуждой рок-музыки. Сам Горбачев однажды откликнулся на их проделки, заявив отечески, что согласится дать им интервью после того, как ребята исправятся. Оказывается, он тоже смотрел их по пятницам - а что ж, он не человек?
С "Огоньком" чуть не вышла неприятность: вдруг объявили осенью, во время подписной кампании, что тираж журнала с нового года будет ограничен и подписка, стало быть, лимитирована. Началась паника, на почте выстраивались очереди, народ клял правительство, нарастало общественное возбуждение, я не удивился бы, если бы вспыхнул бунт! Наши в Союзе кинематографистов вовремя подсуетились и устроили подписку для секретарей, кажется, даже втайне от масс; никто из нас, помнится, не устыдился. В последний момент власти все же изыскали бумагу (дело было, кажется, все-таки в бумаге) - говорят, купили у финнов - и ограничения были сняты. Тираж "Огонька" перевалил в тот год, если не ошибаюсь, за два миллиона!
Вот так, в одночасье, откуда ни возьмись, появились у нас репортеры, обозреватели, редакторы экстра-класса, каких, казалось, и не было и быть не могло на нашей оскудевшей журналистской ниве. Еще несколько лет назад это представилось бы невероятным.
В самом деле, откуда они вдруг взялись?
Это напоминало конец 50-х - начало 60-х у нас в кинематографе, когда в открывшийся шлюз разом хлынули свежие силы, только и ждавшие, как оказалось, своего часа. Целое поколение режиссеров, драматургов, операторов воспрянуло именно в те годы, в ту короткую оттепель.
Так нынче случилось в журналистике. К сожалению, не в кинематографе.
Возрожденная журналистика будоражила умы, грела сердца. Кто-то в те дни замечательно сострил (кажется, Михаил Козаков): читать стало интереснее, чем жить! Что уж такого нам говорили о прошлом и настоящем, чего б мы не знали раньше? Но есть особая сладость слышать, как вещи называют своими именами, вслух.
На том, кстати, держался успех и некоторых спектаклей и фильмов, нашумевших в те недавние еще времена. Опять-таки что там такого нового сообщалось на эзоповом языке иносказаний и намеков? Но ощущение обшей дерзости их и нашей - тех, кто говорит, и тех, кто безнаказанно слушает, смеется и аплодирует,- дарило немалую радость. Сегодня это поймет не каждый.
А тут еще толстые журналы начали баловать читателя запрещенной литературой, стремительно и наперебой, наперегонки снимая с полки то, что давно и, казалось, навсегда упрятано. Началось, помнится, с "Детей Арбата" Анатолия Рыбакова в "Дружбе народов", на что потребовались тогда еще мужество и настойчивость редакции, а уж через год-другой и этот роман показался невинным - пришел черед "Жизни и судьбы" Гроссмана, а затем его же повести "Все течет", по поводу которой даже оптимисты вроде вашего покорного слуги, читавшего ее, как водится, в самиздатовской рукописи спасибо дочери писателя Кате Коротковой, давшей мне ее тайно на два дня,не питали никаких надежд.
Тем временем и классики чередой занимали свои почетные места, пока еще на страницах повременных изданий, оттеснив текущую литературу: Набоков, Ходасевич, Шмелев, Розанов и наконец великий наш современник Солженицын - в нескольких журналах сразу. От темпа, в котором все происходило, кружилась голова.
Об этом, надеюсь, когда-нибудь будет написано более серьезно и основательно. Скажу о том, что относится к предмету этих заметок.
Приобретая, мы вместе с тем и теряли - вот какая парадоксальная вещь. Что теряли? А эту вот сладость запретного плода, о чем я уже упоминал. Вот эту тайную свободу, которую испокон века лелеял в душе русский человек. Вот этот, будь он неладен, эзопов язык, без которого, как заметил еще 150 лет назад небезызвестный маркиз де Кюстин в своей книге о России, нечего делать поэту. "В условиях полной гласности искусство молчит" - так, кажется, он написал, сравнивая нас со своими свободными французами не в их пользу.
Нам еще предстояло понять и примениться к этой совершенно новой и критической для нас ситуации.
А пока этот хлынувший журнальный поток, как бы тут выразиться, смешал карты в сознании читателей, критиков, да и самих писателей. На восстановленной шкале ценностей, более того, на литературном рынке не нашлось места многим из действующих лиц нашей словесности, в том числе и хорошим, честным, талантливым. Еще лет пятнадцать назад мы зачитывались "Домом на набережной"; еще лет десять назад, вернувшись из Штатов, Жванецкий скептически отозвался о тамошнем равнодушном читателе. "То ли дело у нас! - воскликнул он.- Вся страна читает "Плаху"!"