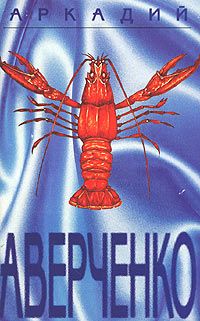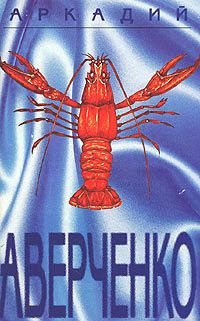Это казалось прямо-таки чудесным: аналогия между моим и соломоновским делом была почти полная. И обе матери, и ребенок, завернутый в одеяльце, находились тут же.
Выше я сказал слово «почти». К сожалению, разобравшись в деле, я нашел в нем значительное уклонение от соломоновского шаблона.
Это выяснилось из разговора.
— Добрые женщины! — сказал я. — Насколько я понимаю, каждая из вас, называя себя матерью, хочет присвоить этого ребенка?
— Если она хочет, — сказала поспешно толстая женщина, — пускай забирает себе. Ребенок ведь ее!
— Ишь ты, ловкая какая! — подхватила худая. — Мой ребенок?! Какой же он мой? Он твой! Дала мне его на руки подержать, да сама убечь и хотела! А еще мать!..
— Нет, ты мать, — возразила другая. — Что ты врешь? Знаем мы вас: всякая хочет своего ребенка сплавить! Грешить вы все мастера, а потом ребят на чужую шею вешать норовите!
Они подняли невозможный крик.
Я задумался.
— Вот, — говорил я сам себе. — Как со времен Соломона изменился свет! Раньше каждая женщина присваивала себе даже чужого ребенка, а теперь каждая мать своего подсовывает чужим людям. Боже мой, Боже мой… А из-за какого-то пальто люди теперь способны перегрызть друг другу глотку!..
Привычным движением я вынул из кармана ножик и сказал:
— Сейчас каждая из вас получит по половине ребенка! Я его разрежу.
Ни одна из них не бросилась передо мною на колени… Обе стояли в ожидании операции, тупо глядя на меня и на мой ножик.
Конечно, у меня и в мыслях не было перерезывать пополам младенца… Я только хотел попугать женщин. Но они не испугались. Просто они, как я полагаю, не доверяли мне.
Я со вздохом спрятал в карман ножик и попробовал прием более культурный.
— А-а… Хорошо же! — угрожающе сказал я. — Если так — я забираю ребенка себе. Вот вам!
Поразительно. Опять ни одна из них не испугалась, не заплакала, не умоляла «о, добрый господин» и т. д.
Просто обе они облегченно вздохнули и, повернувшись, вышли из комнаты.
А младенец остался у меня на руках.
IV
Я устал от всех этих судейских дрязг и следующее дело — об оскорблении действием — гнал на всех парах, стремясь поскорее закончить свой трудовой день.
— На что вы жалуетесь? — спросил я здоровенного приказчика бакалейной лавки.
— Он мне вчерась по морде ударил, этот вот.
Его противником был жирный, легковой извозчик с наглым выражением лица.
— А если бы и вы его ударили? — спросил я. — Вы бы на него не жаловались?
Приказчик задумался.
— Нет. Тогда бы не жалился.
— А почему же вы его не ударили?
— Не успел, ваше благородие, некогда было.
— А сегодня у вас время есть?
— Есть.
Я обратился к его противнику:
— Что бы вы хотели? Сидеть две недели в тюрьме или получить один удар по физиономии.
Извозчик обрадовался и сказал:
— Лучше один удар!
— Так дайте ему хорошенько по голове, — сказал я приказчику. — И все тут.
Приказчик тоже обрадовался и, размахнувшись, так ударил своего врага, что тот покатился на пол.
— А! — сказал извозчик, поднимаясь. — Я тебя бил — ты не падал, а меня небось с ног валишь. Покажу ж я тебе!
Он вцепился в приказчика и стал беспощадно тузить его. По долгу милосердного человека и судьи я бросился разнимать их и сейчас же почувствовал, что сделал это напрасно: оба набросились на меня — судью и милосердного человека.
Только теперь я понимаю, как трудна деятельность мирового судьи: в один день я потерял пятьдесят рублей и доброе имя, получив взамен этого — чужого, ненужного мне ребенка и несколько тумаков.
«Царю-то Соломону хорошо было, — подумал я. — У него стража была и царская власть… Что ни сделает — все хорошо».
Теперь я сижу дома и рассуждаю: почему я не удержался на своем месте? Ума у меня не было, что ли? Нет, ум был. Совести? Была и совесть. Сообразительности не хватало? Сколько угодно.
Почему же?
I
Когда я дочитал до конца свою новую повесть — все присутствующие сказали:
— Очень хорошо! Прекрасное произведение!
Я скромно поклонился. Сзади кто-то тронул меня за плечо:
— Послушайте… извините меня за беспокойство… послушайте…
Я обернулся. Передо мной стоял маленький человек средних лет, ординарной наружности. Глаза скрывались громадными синими очками, усы уныло опускались книзу, бороденка была плохая, наполовину как будто осыпавшаяся.
— Что вам угодно?
— А то мне угодно, милостивый государь мой, что повесть ваша совершенно неправильная! Уж я-то знаток этих вещей…
Он самодовольно засмеялся.
— Вы… что же, критик?
— Бухгалтер.
— А… так… — нерешительно протянул я. — Но вообще-то вы знаток литературы?
— Бухгалтерии! — упрямо сказал он, глядя на меня громадными стеклами. — Уж в бухгалтерии-то, батенька, меня не поймаешь!
Он поежился и кокетливо захохотал с таким видом, будто я собирался его ловить.
— Вам не нравится моя повесть?
— Нет, ничего. Повесть как повесть. Только неправильная.
Заинтригованный, я отвел его в угол, сунул ему в руку рукопись и сказал:
— Укажите мне неправильные места.
Такое доверие польстило ему. Он вспыхнул до корней волос, застенчиво перелистал рукопись и, найдя какое-то место, отчеркнул его ногтем.
— Вот! Это неправильно: «Корчагин не показывал виду, что знает о проделках жены, но втайне все ее вольности, все измены и оскорбления записывал ей в кредит. Дебет же ее, в который он решил записывать ее ласки и поцелуи, — был пуст». Вот!
— Вам не нравится это место?
— Присядем, — сказал маленький бухгалтер.
Мы сели.
— Видите ли… Я взял на себя смелость сделать вам замечание потому, что вы впали в громадную ошибку… Вы знакомы с двойной итальянской бухгалтерией?
— Н-нет…
— Двойная итальянская бухгалтерия изобретена несколько сот лет тому назад монахом Лукой Пачиоло. Принцип ее заключается в двойной записи каждого счета, чем достигается механическое контролирование правильности записи. Если баланс счетов не сходится в цифрах — это показатель неправильности в частных записях. Записи в счетовых книгах отмечаются на двух сторонах развернутой книги: на левой и правой. На левой стороне счета или лица записывается так называемый дебет — это счет или лицо должны владельцу книги; на правой стороне записывается так называемый кредит — это владелец книги состоит в долгу у лица или счета. Поняли?
— Да… пожалуй…
— Теперь ясно, что вы совершили колоссальную, непростительную ошибку: Корчагин должен был измены и оскорбления жены записать ей не в кредит, а в дебет! А ласки ее — наоборот — не в дебет, а в кредит! У вас это перепутано.
Я горячо пожал бухгалтеру руку:
— Я вам очень, очень признателен. Я сейчас же исправлю эту досадную погрешность.
Моя горячая благодарность смутила его. Он махнул рукой и сказал:
— Помилуйте! Я всегда рад… Конечно, нужно хорошо знать бухгалтерию… Дебет — это что нам должны, кредит — то, что должны мы счету.
Я еще раз пожал ему руку и отошел.
Он озабоченно крикнул мне вслед:
— Так не забудьте же: дебет — нам должны, кредит — мы должны.
— Не забуду, не забуду,
II
Мы сидели в укромном уголку обширного кабинета и тихо разговаривали.
Ольга Васильевна положила свою руку на мою и ласково, задушевно сказала:
— Эта повесть — ваша лучшая вещь. Громадная изобразительная сила, яркие краски причудливо смешиваются на этих страницах с волшебными лирическими полутонами, мощный голос зрелого мужа сплетается с полудетским лепетом влюбленного юноши…
— А, вы здесь, — сказал бухгалтер, подходя к нам. — Ну, что… исправили?
— Исправил, — сказал я. — Спасибо.
— Что такое? — удивилась Ольга Васильевна.
Бухгалтер усмехнулся, снисходительно подергав плечом.
— Ах, уж эти писатели… Представьте, какую он штуку написал… Ну, хорошо, что я был тут, указал, исправили… А то что бы вышло? Heприятность! Скандал! Можете себе вообразить: он дебет написал там, где нужен кредит, а кредит — где дебет!
Укоризненно покачав головой, он прошел дальше, но потом круто повернулся и крикнул нам:
— А разница называется — сальдо!
— Что-о?
— Я хочу вас предупредить — если будете писать еще что-нибудь: предположим, что в дебете 100 рублей, а в кредите полтораста; разница — 50 рублей — и называется: сальдо! Сальдо в пользу кредитора.
— Ага… хорошо, хорошо, — сказал я, — запомню.
Бухгалтер снисходительно улыбнулся и добавил:
— А измены и оскорбления ваш Корчагин в кредит ее счета не мог записывать… Он записал их в дебет.
Он кивнул головой и исчез; вслед за ним ушла и Ольга Васильевна. Оставшись один, я побрел в гостиную.