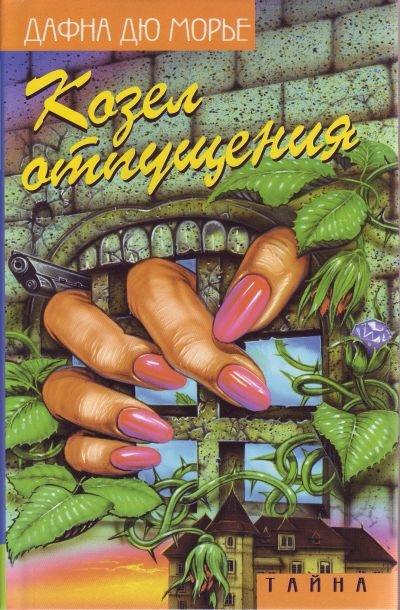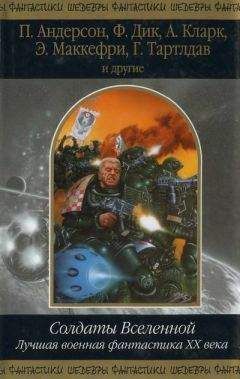всего, — вы бы хотели, чтобы я сообщил девочке о нашей утрате?
Я ответил: нет, я попросил Жюли все ей сказать, но скоро вернутся Поль и Бланш — может быть, он возьмет на себя труд обсудить с ними разные вещи, связанные с похоронами.
— Вы же знаете, — сказал кюре, — что и сегодня, и завтра, и всегда я в вашем распоряжении и готов сделать все, что в моих силах, для вас, для госпожи графини, девочки и всех живущих в замке.
Кюре благословил нас обоих, взял свои книги и вышел. Мы с графиней остались одни. Я молчал. Она тоже. Я на нее не глядел. Внезапно, поддавшись порыву, я подошел к окну и раздвинул тяжелые портьеры. Широко распахнул створки, откинул ставни, и внутрь ворвались свет и воздух. Я погасил обе лампы. В комнате стало светло. Затем встал возле кресла графини, на которое падало предвечернее солнце; оно показывало все, что было раньше скрыто: серую бледность испитого лица, глаза с набрякшими веками, тяжелый подбородок и, когда она подняла руку, чтобы прикрыться, и рукав ее черного шерстяного платья соскользнул к локтю, следы от уколов на предплечье.
— Что ты делаешь? Хочешь, чтобы я ослепла? — спросила она и наклонилась вперед, пытаясь уйти от света.
Четки упали на пол, молитвенник тоже, я поднял их и протянул ей, затем встал между ней и солнцем.
— Что произошло? — спросил я.
— Произошло?
Она повторила мой вопрос, подняв голову и пристально глядя на меня, но я оставался в тени, и мои глаза были ей не видны.
— Откуда я знаю, что произошло, я, узница в этой башне, бесполезная, никому не нужная… мне даже на звонок не отвечают. Я думала, ты пришел, чтобы рассказать, что произошло, а не спрашивать это у меня. — Графиня помолчала немного, потом добавила: — Закрой ставни и задерни портьеры. Ты же знаешь, я не переношу яркий свет.
— Нет, — сказал я, — не закрою.
Ее лицо сморщилось; она пожала плечами.
— Как хочешь. Ты выбрал странное время, чтобы их открыть, вот и все. Я приказала Гастону закрыть все окна и ставни в замке. Я полагаю, он сделал то, что я ему велела.
Графиня откинулась на спинку кресла, затем, взяв четки, заложила их между страницами молитвенника, словно желая отметить место, и снова кинула молитвенник на столик. Поправила подушки за спиной, придвинула под ноги скамеечку.
— Раз кюре ушел, — сказала она, — велю Шарлотте привести обратно собак. Когда он здесь, они нам мешают. Почему ты стоишь? Почему не подвинешь стул и не сядешь?
Я не сел. Я встал на колено возле кресла, положил ладонь на подлокотник. Графиня следила за мной, ее лицо — маска.
— Что вы ей сказали? — спросил я.
— Кому? Шарлотте?
— Франсуазе, — ответил я.
Никакого отклика, разве что она стала еще неподвижней. Левая рука перестала теребить бахрому шали.
— Когда? — спросила графиня. — Я ни разу не видела ее после того, как она заболела и слегла в постель. Я не видела ее уже несколько дней.
— Вы лжете, — сказал я. — Вы видели ее сегодня утром.
Этого ответа maman не ожидала. Я заметил, как она напряглась.
— У кого в доме длинный язык? — спросила она. — Кто это говорит?
— Я.
Я нарочно не повышал голос. В моем тоне не было обвинения, в словах — тоже.
— Она пришла в чувство? — Вопрос был короткий, резкий. — Она сказала тебе что-нибудь в больнице перед смертью?
— Нет, — ответил я. — Она ничего не сказала ни мне, ни кому-нибудь другому.
— Тогда какое значение имеет, была ли она здесь утром? Почему ты хочешь это узнать? Даже если так, чем это может теперь тебе помочь?
— Я хочу знать, как и почему она умерла, — ответил я.
Графиня махнула рукой:
— Что толку? Никто из нас этого не узнает. У нее закружилась голова, и она упала. Берта видела это, когда гнала коров в парк. Так мне сказала Шарлотта. Разве тебе не рассказали то же самое?
— Да, — ответил я, — рассказали. И Бланш, и, вероятно, Рене, и Полю. И всем в больнице. Но я этому не верю, вот в чем дело.
— А чему ты веришь?
Я пристально глядел ей в лицо, но на нем ничего нельзя было прочитать.
— Я уверен, что она убила себя. И вы тоже.
Я ожидал отрицания, вспышки гнева, даже обвинений, а возможно, капитуляции и мольбы о пощаде. Но вместо этого, как ни невероятно, графиня пожала плечами и, улыбнувшись, сказала:
— Убила себя? А если и так…
Этот ответ, холодный, небрежный, бессердечный, показывал, насколько мало ее тронула внезапная смерть Франсуазы, и подтверждал то, чего я больше всего опасался. Я с самого начала чувствовал, что графиня не питает симпатии к Франсуазе, но, помимо этого, было еще что-то, не произносимое вслух: желание свекрови, чтобы ее невестка умерла. Какова бы ни была причина — собственнический инстинкт, злоба, алчность, — графиня хотела убрать Франсуазу с дороги, а в глубине души верила, что ее сын тоже этого хочет. Болезнь во время беременности могла привести к желанному концу, сегодняшняя катастрофа ускорила его. В графине не вызывало жалости то, что несчастная, не видящая ни от кого внимания Франсуаза, потеряв волю к жизни, возможно, сдалась под влиянием момента. Ее смерть или рождение наследника — и то и другое — означало избавление от бедности, и теперь мать Жала была спокойна, что финансовые вопросы семьи наконец решены.
— Что бы ни случилось, — сказала она, — тебя никто ни в чем не обвинит. Тебя не было здесь. Поэтому забудь про все. Играй свою роль — скорби. — Графиня наклонилась вперед в кресле и сжала ладонями мое лицо. — Слишком поздно обзаводиться совестью, — сказала она. — Я говорила тебе об этом прошлым вечером. А если ты думал, будто Франсуаза переживет роды, что заставило тебя делать ставку на ее смерть?
— Что вы имеете в виду? — спросил я.
— В тот день, когда ты вернулся из Парижа, ты позвонил Корвале, — сказала она. — Мне доложила об этом Шарлотта — она слушала разговор по второму аппарату в комнате Бланш, как всегда, когда внизу говорят что-нибудь интересное, — и когда я узнала о твоем согласии на их требования — чистейшая глупость с твоей стороны, — я сразу поняла, что это авантюра. Ты рассчитывал на то, что у тебя появятся большие деньги. Иначе ты стал бы банкротом. Нечего удивляться, что на следующий день у тебя появились колебания и ты отправился в Виллар, в банк, и спустился в подвалы, чтобы освежить в памяти брачный контракт. Излишнее