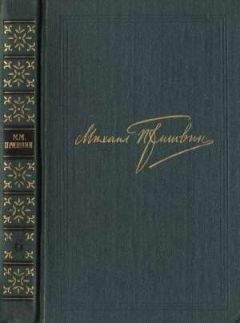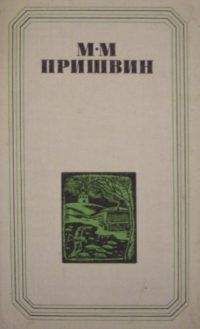Ознакомительная версия.
– Побоится! – подумал Мануйло.
И только бы успокоиться, полщок опять кашлянул. И тогда вспомнились детские ножки возле ламы на песочке у самого куста черной смородины. Вспомнилось тоже детской рукой выбитое на дереве в четыре рубыша знамя Воронья пята. Оставалось бы только вспомнить, как он сам рассказывал детям о старинном путике Воронья пята в самой близости Корабельной Чащи.
Вспомнилось бы, и все бы стало ясно, но как раз в это время полщок опять кашлянул, и верная примета о кашле перед непогодой перешла в душе Мануйлы в суеверное предчувствие того, что полщок кашляет перед бедой.
С этим он и уснул.
А погода наутро пришла лучше всякой: лужицы весенние были окружены все кружевом утреннего мороза, и на этот мороз вставало солнце и не какое-нибудь мягкое, темно-красное, а веселое, светло-золотистое; вставало солнце, как встает человек деловой в твердом уме и памяти.
Казалось бы, и человеку теперь тоже бодрым вставать, но только встал было Мануйло, только плеснул себе на лицо холодной воды, проклятый полщок опять, кашлянул.
– Живые помочи! – прошептал Мануйло.
И в недобром духе пошел своим путиком в свою становую избу.
Так мы думаем, что скорей всего тесно стало Мануйле на своем путике, и вот отчего душа его отозвалась на суеверие.
Прямо сказать, что Мануйло отдался суеверию, как старая баба, конечно, нельзя, но и не такой он шел, как прежде во всю жизнь хаживал на своем путике: ему стало теперь, как будто этот старый путик отцовский у него теперь был не свой, как будто он ошибся и попал не туда, куда так хотелось.
И оттого стало ему как-то тесно на своем путике и неприятно, что все на месте как-то стоит и не изменяется.
Вот они опять те самые два постоянные дерева стоят на своем месте, уступая друг другу дорогу, делают вид, а сами все стоят и стоят.
Но что это такое?
Мануйло замер в тревожном изумлении.
Между деревьями было два белых пятна, как будто человек шел с мешком муки на спине и зацепил.
Помочив палец слюной, Мануйло собрал с одного дерева того чего-то белого, попробовал, и оказалась мука.
Между деревьями был брусничник, примятый немного следами большими в теплый сапог, и по листикам темно-зеленым, перележавшим зиму под снегом, с листика на листик вилась белая змейка.
Мануйло тоже и тут собрал немного белого, попробовал.
– Живые помочи!
На брусничнике была тоже мука.
Теперь все открылось: медведь шел, как человек на двух задних ногах, нес в обнимку мешок с мукой, а из дырочки, наверно, пробитой когтем того же медведя, тонкой струйкой по брусничнику бежала мука, на встрясках побольше, на ровном ходу поменьше.
Бежала мука и бежала, мука колхозная, мука заслуженная!
Мануйло хотел было броситься туда вслед за мукой и уже опустил на дробовой заряд пулю и пристукнул ее шомполом, но вдруг весь быстрый план его переменился и он даже отпрыгнул в сторону от своего путика.
Нельзя затирать след своим следом.
Только пришлось, обойдя стороной, приглядеться к следу: один ли раз недобрый сосед прошел или, утащив один мешок, вернулся за другим и еще раз прошел.
След показал – медведь один раз прошел и унес только один мешок, сразу два захватить он не мог.
Теперь все стало ясно: медведь куда-нибудь недалеко отнес мешок, поел, сколько хочется и закопал во мху про запас. А ночью вернется своим следом за вторым мешком, и тут надо встретить его на лабазе, а между деревьями, где остались белые мучные пометки, нужно сделать на случай петлю из мягкой проволоки.
Так Мануйло, обходя след соседа, вернулся в свою становую избу.
Может быть, не у себя самого, а в суземе, всем великом суземе, все бывало и, как по ветру, от человека к человеку переходило на память с самых далеких времен, от прадедов и прапрадедов.
Чего, чего не было!
Даже такое бывало, что недобрый человек забирался в клеть с пушниной и уносил с собой все. Но чуткий сузем выдал беззаконника, и тут же на следу он был казнен. В чутком суземе и это страшное дело стало известно, и когда люди проходили по общей тропе, то показывали, озираясь на великую кокору, опрокинутую, как страшный памятник, над телом казненного.
Эта кокора от ветродуйного дерева когда-то стояла ребром, замшела от времени и была похожа на огромного медведя, стоящего с поднятыми лапами на задних ногах. Таких опрокинутых деревьев с корнями и огромной землей между ними было много на пути общей тропы, но, такого медведя огромного не было, и все его знали. Как вдруг кокора эта заметная опрокинулась, а засохшее дерево, перерезанное, осталось лежать на земле.
Каждый прохожий, конечно, спрашивал, кто это дерево перепилил, кто опрокинул кокору, и зачем он ее опрокинул.
Чуткий сузем каждому отвечал, что это закон сузема: под кокорой лежит человек, захвативший труд другого человека. И каждому, кто поступит против такого закона сузема, будет неизменная судьба тоже так лежать под кокорою.
Чего, чего на веках не бывало в суземе, но чтобы медведь по человеческой лестнице забрался в клеть и, обняв мешок с мукой, пронес в свое логово, этого как будто в суземе совсем не бывало!
Недаром же полщок прокашлял всю ночь: вся скатная крыша была разобрана по бревнышку, накат был выброшен тоже. Но что всего больше задело Мануйлу, – это что сам-то он забыл убрать лестницу, но медведь не забыл. Сосед оказался умней человека и лестницу не только повалил, но еще и оттащил ее в сторону и разломал.
Больше она была ему не нужна: второй мешок лежал под неодетым кустом: тут-то недобрый сосед чуть-чуть и промахнулся, он думал, что раз он вышел из берлоги, так уже и деревья должны одеваться. Было же так, что мешок белый далеко был виден в неодетом кусту.
Простительно было медведю поглупеть от богатой находки, но человеку, охотнику забыть убрать за собой лестницу и самому понять себя глупее зверя было непереносимо.
Счастье Мануйлы как будто убежало с его путика, и он рассердился пуще всякого зверя.
Даже и в наших домашних лесах, составленных больше из поросли, всегда радует чем-то при встрече рябина. Весною они встречается, как невеста в белых цветах, – осенью, с красными ягодами, как добрая мать в ладном доме.
А что ягоды у рябины горькие, так ведь и вся-то наша жизнь, когда долго поживешь, по правде говоря, не очень-то сладкая.
Вот отчего скорей всего нас так и радует в лесах при встрече рябина, что мы в ней себя самих узнаем.
Первые морозы ударят, налетят со всех сторон на рябину птицы, дрозды всякие, московочки, синички, клесты.
И люди тоже, спугнув птиц, подходят, берут ягоду и говорят между собой одно и то же всегда с удовольствием:
– Какой славный морозик! вот и рябина стала – какая сладкая!
А уж какая там сладкая рябина! Но люди не унимаются и делают из горькой рябины по-своему сладкую.
Скорей всего этому так и радуешься при встрече с рябиной в лесу: что уж очень-то что-то сходится, как подумаешь, почему-то и цвет и ягода у рябины с цветом и ягодой нашей человеческой жизни.
Но еще куда сильней, чем рябина, говорит нашему человеческому сердцу в северном диком суземе, в тяжелом еловом долгомошнике неожиданная встреча с березкой.
Мы не о той березе сейчас говорим, что вырастает самосевом корявая и даже не белая где-нибудь в болотах на кислой земле.
Мы о той березе белой говорим, прекрасной нашей березе, вырастающей непременно там, где был и над чем-нибудь потрудился человек.
Вот эта-то самая береза всегда нам кажется при встрече каким-то по-человечески живым существом, кажется, будто какой-то человек в горе своем, что нельзя свою тайну никому сказать, шепнул ее земле, и оттого выросла березка и, белая, ждет кого-то, чтобы перешепнуть ему свою тайну.
Был человек очень хороший, проходил он когда-то берегом реки Лоды в немеряные леса на Мезени, и очень он тогда уморился и захотел отдохнуть.
Сел прохожий человек и задумался. Вдруг из дупла высокого дерева вылетает пестрая, белая с черным утка и выносит на воду из дупляного гнезда одного маленького утеночка.
Эта утка Гоголь перетаскала всех своих двенадцать утят на воду, собрала всех тесно возле себя и вдруг – прощайте! – исчезла под водой. Тогда все ее мальчишки и девочки тоже вниз, под воду искать мать, и что было так удивительно сидящему на берегу человеку: довольно долго никого из-под воды не показывалось. Конечно, долго показалось человеку: он судил по себе и свою добрую человеческую душу по-своему как-то переселял в бедных утят в поисках под водой родной матери. У них же у самих все выходило бодро и весело: в свое утиное время мать показалась и утята все по одному в разных местах. Все увидели, узнали друг друга, мать подала сигнал по-утиному, ребятишки засвистели, все сплылись. А потом, окунув всех еще раз, мать всех перетаскала обратно в дупло.
Ознакомительная версия.