Не совсем. В этой идиллической картине присутствовала одна горькая инородная фигура. Если бы сейчас увидел ее сын Сергей, или старший Александр, или даже другой какой-нибудь посторонний, но знавший ее хотя бы полгода назад человек, ох как бы эти люди ощутили результаты прошедших месяцев. Она постарела, из пожилой, но крепкой женщины, вечно готовой дать отпор внешним обстоятельствам, превратилась в старуху. И не столько дряхлостью внешнего облика, но больше каким-то безразличным, и оттого даже жестоким выражением глаз. С детства приученная к крестьянскому труду, любившая наблюдать, как из пыли и грязи появляются на белый свет безупречного чистого цвета растительные продукты, она не радовалась буйному расцвету агрономовского хозяйства. Все это было не ее.
С утра она выносила из дому старую покосившуюся табуретку и до вечера просиживала в саду, глядя пустыми глазами сквозь кривые стволы трех зимних яблонь. О чем она думала? Неизвестно. Некому сказать. Может быть, она вспоминала далекое довоенное прошлое. Голодное, радостное время, молодого курчавого гармониста, затяжные парашютные прыжки в далеком небе над рабочим поселком, куда, гонимая нуждой, она приехала из деревни. Самолюбивая, своенравная, закрутила голову раскулаченному сынку. Однажды чуть не довела до самоубийства - чем-то пригрозила, и Афанасич, напившись впервые до чертиков, пошел класть голову на железнодорожное полотно. Проспал там до утра - слава богу, поезда редко ходили. Сыграли свадьбу, зажили. Потом началась война, и хотя Афанасич, прикрытый бронью, на фронт не ушел, их жизнь начала потихоньку разваливаться. Сначала родилась мертвая девочка Оля, потом пришли вести от братьев с фронта, потом - потом запил Афанасич. Отчего конкретно, неизвестно. Может быть, оттого, что быстро облысел, в двадцать семь лет от бравой курчавой шевелюры осталось гладкое пустое место. А может, из необоснованной ревности, доходящей временами до крайности. Или из-за работы? Он пользовался популярностью у народа, поскольку был личным шофером черной "эмки" первого секретаря. Из гордости денег не брал, но за бутылку мог и замолвить словечко.
Сразу после войны родился Александр. Она помнила, наверное, как радовался Афанасич, и сама она не ожидала, до чего красавчик может быть у нее сын. Все свои жизненные мечты, увиденные когда-то с высоты птичьего полета, она связала с Александром, а муж, ощутив дополнительное охлаждение, вернулся на круги своя. Так и пронеслось дальше все как за один день. Еще подрастал Сергей, тихий, спокойный мальчик, а Александр уже начал куролесить по свету, принося домой одни неприятности. Все ее надежды на будущий успех Александра, наверняка в необычной и заодно материальной области жизни, таяли на глазах. Она ругала Сашку последними словами, пилила за непрактический ум, била неоднократно, но сама же была готова любого загрызть, если тот хоть намеком попрекнет сына. Что здесь было обычная привязанность к неразумному дитяти? Нет, не только, было нечто большее, исконное, неизвестно откуда появившееся, почти звериная вера в сверхъестественное предназначение ее рода на белом свете. Иначе зачем она выла как битая собака в палате провинциального родильного дома, да так дико, что сходили с ума видавшие виды медицинские сестры. Ох, как он ее измучил. И для чего эта убогая, бедная, беспросветная жизнь с поломанными нуждой, унизительными, бесконечными, друг на друга похожими буднями, с этим вечно пьяным рылом Афанасичем. И еще важное, особенное - женщины, другие женщины. Они все, все до одной, вплоть до ее соседки, барыни Елены Андреевны, неизбежно должны завидовать самой черной завистью ее материнскому успеху. Только так, и не иначе. Иначе пропади все пропадом, иначе лучше сдохнуть, удавиться, только не быть как все.
Но и так было видно, что сын ее не такой как все. Она отмечала, как тянутся к нему в округе, и видела, что он их выше, красивее, благороднее. Конечно, не удивилась, когда бросил он топкие берега и умчался в центральные районы. Там его оценят, возвысят, восславят по достоинству. Но что-то там не сработало, затормозило, и наступили настоящие черные дни, в конце которых ждала страшная развязка.
Впрочем, сейчас, когда уже все пропало, она вряд ли думала о нем. Слишком это было для застывшей в летнем саду фигуры. Когда молодая хозяйка трогала ее за плечо, позвать поесть чего-нибудь, она чуть вздрагивала узкими плечами и посильнее сжимала что-то в кулачке. Казалось, этот тайный предмет, тщательно скрываемый от постороннего глаза, и был самой последней, крайней зацепочкой, связывающей ее с окружающей жизнью. Не зря же Афанасич во время ссоры, когда не хватало самых страшных слов, выкатывал на жену красно-белые глаза и шипел: "У, шельма, знаю, знаю, чего молчишь, ты нас всех извести хочешь молчанием, разожми кулачишко, покажи, чего там за инкогнито в руке. Слышь, яд у нее там, она, змея, отравить нас собралась, пиявка!"
13
В последние дни определенно что-то происходит. У Бошки явно что-то не заладилось, и он нервничает. Пропала куда-то прежняя приторная манера говорить многозначительными намеками, с тягучими неуместными паузами, с монотонным лживым подобострастием. Теперь он уже не так тщательно накрывает стол, без всяких намеков, только на двоих, но при этом путается с приборами, а за чаем часто забывает предложить сахарку. А однажды даже разбил чашку, и тут же, безо всяких причитаний сам, собственноручно собрал осколки и выбросил в мусоропровод. Видно было, что-то его беспокоит, и видно было, как он желает поделиться своими проблемами с Имяреком. Но Имярек сам не напрашивается, выжидает, знает, как легко Бошку вспугнуть, а не хотелось бы, потому что, кажется, надвигаются какие-то перемены.
Наконец Бошка не выдерживает и начинает издалека.
- Что-то мне нездоровится, нога ноет и в мозгу какое-то шебуршение.
- Какое шебуршение? - как можно сочувственнее интересуется Имярек.
- Знаешь, уважаемый, ляжешь под утро, накроешься с головой - я почему-то одеяло на голову люблю натягивать - закроешь глаза, и пошло, поехало. - Бошка осторожно потрогал плешь. - Вот здесь вот холодеет и отстегивается изнутри.
- Как это, отстегивается?
- Нет, не отстегивается, а как будто отклеивается, отлипает, и сквознячок погуливает. Холодно, вот я и натягиваю одеяло, только не помогает, не действует. Понимаешь, Старик, еще холоднее становится.
- Но что отклеивается? - Имярек тоже разволновался, услышав старое забытое обращение.
- Мысли отклеиваются вместе с мозгами. Я читал где-то, у стариков бывает усыхание внутренних органов. Да. И все бы ничего, если бы просто холодная пустота. Это еще полбеды, это только начало. А после, после... Бошка закрывает глаза, пытаясь оживить ночное состояние. Это ему, видно, удается, и на глазах у него появляются две крупные слезы. - Плохо мне, уважаемый, страшно. Из этого самого холодного проема выглядывает нечто. Оно у меня, понимаешь, в мозгу, а я его вижу со стороны, вроде как подглядываю издалека, что дальше будет. Думаю, в щелочку посмотрю, прослежу, зачем оно такое, незаметное. А оно-то на меня смотрит, понимаешь, безглазое, смотрит и щупает. - Бошка от волнения даже встал и идет поближе к Имяреку, чтобы шепотом говорить. - Ни зверь, ни змея, а страшно, потому как чувствую: заметило оно меня, приближается. Я еще надеюсь, может быть, мимо проползет, проскочит, может быть, кто другой нужен, что же, я и есть последний человек? Но бесполезно, учуяло, надвигается, и даже чувствую - уже все про меня знает, не то что именно про сейчас, про текущий момент, что, мол, я уже насторожился и подсматриваю за ним украдкой, но даже более того... И вот, понимаешь, еще как бы не рядом, а уже щупает, исследует, то есть уже нет, не изучает, ибо самое страшное и так наступило. А знаешь, Старик, что есть самое страшное? - Бошка уже дышит собеседнику в лицо. - Самое страшное, когда тебя вот так вот возьмут за душу, - бошкины руки почти касаются Имярека, - и все про тебя поймут. Ведь человек живет таинством, таинством прошлого, таинством настоящего, и главное, таинством будущего. Зачем жить, если про тебя уже кому-то все известно? Понимаешь, знание убивает человека. - Бошка как-то странно присел. - Видишь, какой я бедный, жизнь прошла, а меня-то и не приметила. Ни талантом, ни удачей не приметила, только изнуряющим тяжелым трудом. Говорят, Бошка злой, завистливый, жадный. Конечно, легко быть великодушным, когда есть чего предъявить, легко быть добреньким, если у самого про запас что-нибудь имеется. Я же видел, наблюдал этих добреньких. Все они баловни судьбы, каждому Господь Бог чего-нибудь предложил за так, понимаешь, ни за что, бесплатно. Разве это справедливо? Такой походя идею бросит, как бы невзначай, а все уже вокруг вьются, восхищаются очаровательно, талантливо, гениально. А ты стоишь в углу, незаметный, маленький, плешивый, и веришь ли, просто колотит от несправедливости. Нет, для виду я, конечно, тоже радуюсь, восхищаюсь, а внутри все аж горит, душит. Так и хочется крикнуть: "Комедианты! Вы все до одного комедианты, вы же притворяетесь, будто вот так просто, от радости за чужое счастье аплодируете. Ведь это же несправедливо, нечестно, что ему все, а нам галерка!" Как же это тяжело, Старик, как тяжело. Ведь я же не дурак, раз понимаю такое. А? - Бошка на мгновение замирает, ожидая подтверждения. Имярек соглашается еле заметным кивком. - Каково же мне быть с детства посередине, лучше уж быть дураком, лучше не понимать, что ты неудачное изобретение природы. Говорили, правда, трудись и достигнешь. Чепуха, трудился до седьмого пота. Нет, понимаешь, не хватает чего-то главного, неизвестного, неизведанного. Зачем же я тогда появился на свет, чтобы знать, понимать и не смочь? Для чего я тогда? - Бошка опять замолкает и деревянным голосом дает ответ: - Ни для чего. Никому я не нужен, никому. Если бы хоть жива была женщина, которая меня родила, как думаешь, она бы меня пожалела, а?


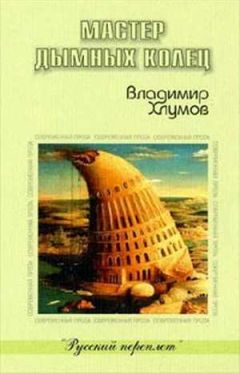

![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)