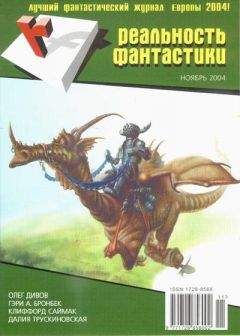Прохожу иногда по Старой площади, мимо 10-го подъезда, где на четвертом этаже, за столом, заваленным кипами журналов, сидел Алексей Алексеевич. Где он теперь, что поделывает? И кто нынче в этих кабинетах? Буфет, я думаю, на прежнем месте, и там опять сосиски...
Впечатление от письма Шостаковича. Только что его прочитал. Письмо 1932 года, адресовано Павлу Александровичу Маркову, сейчас впервые опубликовано. Оба были молоды, дружили. Павел Александрович, мой институтский учитель, показывал мне кипы писем "от Мити", лежавшие неразобранными в его старом комоде. Однажды они даже вывалились, и мы их вместе подбирали с пола. В этом письме, сейчас впервые опубликованном, Шостакович подробно рассказывает, как его представляли к награждению орденом "Трудового знамени" в связи с 15-летием Октября и какие слова при этом говорились - о "беспредельной преданности партии, пролетариату и советской власти", "энтузиазме в деле создания советской музыкальной культуры" и т. д. Все это Дмитрий Дмитриевич обильно и серьезно цитирует. Он озабочен вот чем: а вдруг не дадут? Ведь тогда "насмешкам и издевательствам не будет конца", да и самому будет "обидно и горько". Так вот, не написать ли письмо Калинину с отказом от награды, "а заверенную копию письма хранить у себя и показывать всем насмешникам". "Я растерян, не знаю, как быть".
Тут все поражает. Мнительность, нервность Шостаковича известны, тому немало и других свидетельств. "Когда публика кашляет в зале, то это равносильно для меня ударам ножа по окровавленной ране",- признается он в этом же письме. Но орден?! Письмо к Калинину?! Сам он пишет тут же, не теряя самоиронии: "Вот какие дела. Я как Бурдюков из "Владимира 3-й степени" отравлен мечтой об ордене и волнуюсь нещадно".
Что же с ними со всеми происходило? Даже с гениями?
Этот феномен, я думаю, до сих пор не разгадан. Он длился десятилетиями. Ни одно из объяснений, что приходят на ум, не дает исчерпывающего ответа. Может быть, на самом деле тут область иррационального? Ведь не просто же страх и тем более не преданность и любовь. Вера. А она, как известно, не поддается рассудку.
Два или три поколения жили с верой - в социализм ли, в партию и ее вождей, в справедливость нынешнюю или хотя бы грядущую,- с верой, то и дело колеблемой, подтачиваемой изнутри и извне, обраставшей оговорками ("несмотря на то, что..."), но все-таки сохранявшейся, повлиявшей на наши характеры, и не только в худшую сторону, надо признать. Расставались с этим трудно, болезненно, половинчато, под ухмыльчатые реплики тех, кого вера эта обошла или он ее обошел,- но, как хотите, мне ближе эта энергия заблуждения, по-толстовски говоря, или мука преодоления, это долгое изживание в себе раба, "совка", как кто-то когда-то назвал, и слово прижилось; это запоздалое обретение внутренней свободы, ближе и ценнее, нежели мудрость тех, кто все всегда понимал.
Расфилософствовался. Пора вернуться к рассказу.
Шел в комнату, попал в другую. Золотой век продлился, как я сейчас могу подсчитать, два с половиной - три года. Срок тоже немаленький. Но развязка - как в пьесе - близилась неотвратимо. Мы сами, вопреки собственным же надеждам и интересам, торопили ее.
Получилось так, что независимые студии-кооперативы, предмет гордости и забот революционного союза, составили конкуренцию "большому кинематографу" намного раньше, чем предполагалось, и совсем не в области художественной мысли.
Начать с того, что вы уже не могли найти для картины приличного гримера, хороших ассистентов и монтажеров. Все так называемое среднее звено, а уж за ним и операторы, и сами режиссеры потянулись в кооперативы, где людям платили вдвое, втрое больше. Сдавались в аренду павильоны. Пошла чехарда: там одни цены, здесь другие. И те и другие быстро росли. Государственные студии подтягивались к коммерческим. Теперь дело было за тем, чтобы снятую картину продать по новой цене. Но к этому не были готовы ни прокат, ни зритель.
Но это не все. Коммерческие студии обозначили поворот, еще неведомый для нашего кинематографа: теперь-то он был всецело ориентирован на зрителя. Не на того воображаемого, которого имела в виду наша прекрасная "модель", а на реального, который хотел смотреть не Тарковского, а чего-нибудь попроще, тем более что кинотеатры уже полнились такими зрелищами в заграничном исполнении: дистрибьютеры, они же прокатчики, не заставили себя долго ждать... Теперь вам, сценаристу, говорили: хорошо, прекрасно, но, извините, у нас это не пойдет, нет ли у вас чего-нибудь про маньяков...
Когда-то в городке Чинечитта, близ Рима, итальянском Голливуде братьев Ди Лаурентисов, один из братьев объяснял Райзману и мне, как они ухитряются работать с Феллини и Берталуччи, заведомо зная, что ни тот ни другой, равно как и Антониони и Пазолини, полных залов не соберут. "А мы и не ждем от них доходов,- сказал Луиджи Ди Лаурентис.- Пойдемте, я покажу вам, что мы снимаем для денег. Сейчас как раз в моде итальянские вестерны и вот, смотрите, павильон. На этот задник-экран проецируется небо с облаками, а эти скалы из пенопласта складываются в любую конфигурацию. Месяц - и снята картина. Но если у тебя не будет одного-двух фильмов для Канн или Венеции, считай, что ты потерял лицо. А значит, потерял и деньги кто из звезд пойдет к тебе сниматься в вестернах?!"
Как просто и мудро. Может, и мы когда-нибудь к этому придем? Но у Лаурентисов 20 фильмов в год, а у какого-нибудь нашего доморощенного "Резонанса" их два или три - не больно рискнешь. И продюсеры наши, увы, не Лаурентисы.
А тут еще грянуло и видео. И хлынул поток заграничных фильмов, теперь уже ничем не сдерживаемый. Ловкие ребята покупают их в США по бросовым ценам, что подешевле, и толкают на экраны кинотеатров - тоже отныне "юридических лиц". Можно сколько угодно слать протестов, писать петиции по этому поводу - ушло время, когда это на кого-то действовало. Вы же сами говорили: рубль - это свобода, рублю не прикажешь.
В эти годы, говорят, делались состояния...
Еще немного, и схлынут толпы на Пушкинской площади, опустеет сквер: фильмы всех стран станут общедоступными до безразличия, а собственные наши фильмы потеряют общественное значение и всеобщий интерес. Потому что в нормальном обществе фильмы смотрят те, кому они интересны, а не все подряд, а хорошую книгу покупают те, кому она нужна, а таких на самом деле не так уж и много.
Вы ведь так добивались, чтобы у нас действовали рыночные законы, и правильно. Вы выступали по этому поводу со всех трибун. Припомните день за днем всю нашу революцию и себя в ней, вам это ничего не напоминает?
А сзади, в зареве легенд,
Герой, дурак, интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.
Пастернак, "Высокая болезнь"
Мы оказались в двух реальностях. Мы в них, собственно говоря, по сей день и живем. Тут уже капитализм на дворе, рынок, который не уговоришь. А здесь же где-то еще советская власть, ее институты, хоть и названные по-другому, ее чиновники, привычки, которые все еще в нас, эти письма к общественности, которые мы еще иногда строчим, государство, которое вроде бы есть. И непонятно, где ты в данную минуту. Шел в комнату, попал в другую.
Завершение. Шестой съезд кинематографистов созван был на год раньше положенного срока, как внеочередной. Нам предстояло на год раньше сложить полномочия. Это было последней придумкой Андрея Смирнова, для всех неожиданной, и он провел ее в жизнь, как всегда, с неукротимым напором. Климов его поддержал. В итоге - большинство "за".
Оппоненты, и я в их числе, утверждали, что еще не время нам уходить от дел - какие резоны? Кто уж нас так торопит, надо бы завершить начатое. Смирнов вяло пререкался, но стоял на своем. Мне показалось, что на этот раз в нем говорит не бес разрушения, а просто усталость.
Позднее я понял его правоту - уже на самом Шестом съезде, прошедшем на удивление мирно и лениво. Вдруг оказалось, что устали все. Что этот боевой наш союз, сделав свое дело и исчерпав пыл, готов к своему исчезновению.
Теперь это будет у нас то ли федерация, то ли конфедерация, то ли еще какое-то рыхлое сообщество с непонятными правами и задачами. Всем ясно, что съезд этот у нас последний: союз - вот этот, теперешний - прекращает свое существование.
Вспомнят ли нас добром?
Увы!
Уж который год только и слышу, что Пятый съезд и мы, его команда, развалили великий кинематограф. В этих записках уже приведены высказывания.
Что поделаешь, люди мыслят штампами. Ищут виноватых. Это наша, пожалуй, советская черта. Древние все валили на рок. В средние века искали ведьм.
На самом деле в мире разваливается то, чему пришел срок развалиться, будь то союз республик от Балтики до Курил или даже такое чудо, как наш кинематограф - великое искусство в несвободной стране. Чудо, до сих пор, может быть, и неоцененное.
В новой стране, свободной, мы не создали еще, надо признать, ничего равноценного. Можно ли сделать вывод, что цензура полезна для искусства там, где его угнетают, оно поднимается? Не хотелось бы так думать. Однако именно энергия сопротивления до сих пор питала все лучшее, что нам удавалось. Это так.