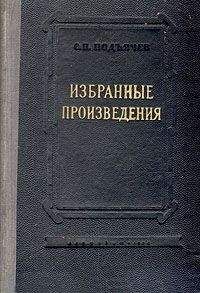Онъ замолчалъ, сдѣлалъ папироску и легъ навзничь.
— Чортъ знаетъ, что такое! — воскликнулъ онъ вдругъ, какъ-то сразу перевернувшись на бокъ ко мнѣ лицомъ и со злостью кинулъ на полъ скомканную папироску. — Какъ объяснить это? Вѣдь я же отлично зналъ тогда, что дѣлаю подлость, что дѣлаю возмутительное дѣло, что убиваю ее… Мнѣ хотѣлось плакать, глядя на ея мученья и слезы, и вмѣстѣ съ тѣмъ мнѣ были пріятны эти ея слезы… Тѣшили онѣ меня… тѣшили мое чертовское самолюбіе… Плачешь… страдаешь… жалко… любишь… мучаешься… и мнѣ тяжело, а все-таки я уйду… мучайся тутъ… страдай… плачь!… Ахъ! — съ отчаяніемъ воскликнулъ онъ, — не могу я объяснить этого чувства… разсказать не могу… изныло сердце! Подлость, подлость и вмѣстѣ нѣтъ подлости, а есть любовь, одна только любовь!… Вѣдь люблю же я ее… Господи! да, кажется, вотъ такъ сейчасъ бы и упалъ ей на грудь… заплакалъ бы… Все-то бы, все поняла она сердцемъ своимъ добрымъ, душою ангельской!… И простила бы!..
Онъ перевернулся внизъ лицомъ и, какъ мнѣ показалось, началъ кусать подушку зубами.
— А что если она, — воскликнулъ онъ, привскочивъ на койкѣ и схвативъ меня за руку, — померла!.. Померла отъ родовъ?.. а? — И онъ съ выраженіемъ ужаса глядѣлъ на меня, ожидая отвѣта. — Тогда, — продолжалъ онъ, и глаза его дико сверкнули, — я разобью себѣ голову объ стѣну или сожгу себя на огнѣ, какъ полѣно дровъ!… О, Господи! — продолжалъ онъ, немного успокоившись и выпустивъ мою руку изъ своей. — Я не знаю, что говорю и дѣлаю… Во мнѣ все горитъ и кипитъ… То мнѣ жалко всѣхъ… То я готовъ зарѣзать свою мать, своего собственнаго ребенка!… И всегда такъ, съ самаго, понимаете, моего дѣтства, все у меня шло въ разрѣзъ. Я всегда былъ не такой, какъ другіе… Въ глубинѣ души я чувствовалъ себя способнѣе и умнѣе всѣхъ своихъ товарищей… Учился я отлично. Покойный отецъ не жалѣлъ денегъ на это. Деньги были… Онъ занималъ мѣсто управляющаго въ богатомъ имѣніи. Хотя онъ былъ простой человѣкъ, малограмотный, но страшно гордый и ученье ставилъ выше всего. Да не судилъ ему Богъ вывести меня — померъ. Такъ я и не окончилъ нигдѣ… Средствъ не стало. А господишки, которымъ мой отецъ служилъ всю жизнь, перенося ихъ дикій произволъ, не захотѣли платить за меня… Такъ я и сѣлъ на мель!… Ну, выросъ я, окрѣпъ… Сняла старуха-мать земли въ аренду… женила меня… живи!… Пить я сталъ сначала тайкомъ, еще до женитьбы, а потомъ вьявь… пристрастился къ водкѣ… Да, тяжело это, а все-таки люблю. Голова кружится и горитъ, какъ въ огнѣ, сердце бьется, готово выскочить, рой мыслей, одна другой смѣлѣе, кружатся въ головѣ!… О, въ это время все мнѣ ясно… Все я могу передѣлать, перемѣнить… Стоитъ только мнѣ захотѣть, и я открою людямъ глаза, и все измѣнится къ лучшему… Измѣнятся мысли, отношенія, обычаи, земля превратится въ рай земной, а люди въ братьевъ… Я говорю тогда и вѣрю въ могущество своего слова, вѣрю, что мною найденъ ключъ къ счастью, ко всеобщему благу… Я забираюсь въ такія минуты въ какую-нибудь трущобу, къ пьянымъ людямъ, гдѣ сидятъ обтрепанныя, растерзанныя дѣвки, пьютъ водку и ругаются, какъ извозчики. Я кричу, что насталъ день великаго торжества и счастья, что придетъ то время, когда, по словамъ поэта,
«… не будетъ на свѣтѣ ни слезъ, ни вражды,
Ни безкрестныхъ могилъ, ни рабовъ,
Ни нужды, безпросвѣтной, мертвящей нужды,
Ни цѣпей, ни позорныхъ столбовъ!..»
Мнѣ кажется тогда, что я великій человѣкъ… ораторъ, витія!… Что передо мной масса слушателей. Что кругомъ меня все такъ красиво, свѣтло, радостно, просторно… Я упиваюсь своими словами… слушаю ихъ, и мнѣ кажется, что во мнѣ все ликуетъ, поетъ. пляшетъ!… Но когда изъ моей головы выдохнется водка, — продолжалъ онъ, понизивъ голосъ, — тогда я падаю съ неба на землю, прямо въ грязь! Тогда я не могу совладать съ собой… Все мнѣ гадко… Тоска, тоска гложетъ сердце! Я убѣгаю отъ постылыхъ людей, забиваюсь въ какую-нибудь дыру и горько, самъ не понимая, не зная о чемъ, плачу…
Онъ плакалъ и теперь… Слезы катились крупными каплями изъ его черныхъ, какъ черная смородина, глазъ по разгорѣвшимся щекамъ. Я, затаивъ дыханіе, слушалъ и смотрѣлъ на него. Мнѣ было грустно. Я чувствовалъ, что дрожу, но не отъ холода, — въ спальнѣ было страшно жарко, — а отъ чего-то другого.
— А годы, между тѣмъ, идутъ, — продолжалъ онъ, — все лучшіе годы… Тратится жаръ души въ пустынѣ… Собственно говоря, лично я ничего не желаю… Богатые и бѣдные, сытые и голодные, умные и глупые всегда страдаютъ и будутъ страдать… Не въ этомъ дѣло… А вотъ — гдѣ справедливость? Гдѣ правда?..
Онъ замолчалъ, сѣлъ на койку, обхвативъ колѣни руками, широко раскрылъ глаза и проницательно взглянулъ на меня.
— На чемъ я остановился-то? Да. Ну… такъ вотъ, всю ночь мы съ женой не спали… Она плакала, а я увѣрялъ ее, что все будетъ хорошо. Утромъ поднялся чѣмъ свѣтъ, переодѣлся, забралъ бѣлье, шубу надѣлъ… ухожу!..
Жена пошла проводить… Зашли мы съ ней въ лѣсъ… Съ версту отъ дома… Погода была гадкая, снѣжная… Устала она, запыхалась… Въ такомъ-то положеніи, понимаете… «Не ходи дальше, говорю ей, — устала… Простимся здѣсь, и иди обратно»… Заплакала она… Бросилась ко мнѣ на шею… «Не забудь тамъ меня, — шепчетъ, — не забудь, голубчикъ мой… Не уходи… Вернись… Помру я безъ тебя тутъ… Немного ужъ мнѣ осталось»… Высвободился я изъ ея объятій и пошелъ прочь… Прошелъ шаговъ сто, до повертка… Оглянулся, вижу: стоитъ она, руки заломила, плачетъ… Остановился и я… Слышу, шепчетъ мнѣ въ одно ухо совѣсть: «останься, что ты дѣлаешь? А въ другое: иди, иди, иди!… Пусть ее плачетъ… Это ничего… Значитъ, любитъ… Будь мужчиной… Покажи свою твердость… Иди… Она тебя за это еще больше любить будетъ»…
Нахлобучилъ я шапку, поднялъ воротникъ у шубы, махнулъ рукой и скрылся изъ ея глазъ за поверткомъ… Ну, и пошло… Дошелъ до села, прямо въ кабакъ… Напился… Нанялъ подводу въ городъ… Пріѣхалъ, опять прямо въ трактиръ, — «Низокъ» называется, гдѣ обыкновенно «золотая рота» обитаетъ… Заказалъ четверть водки, собралъ этихъ молодцовъ, напился съ ними, разсказалъ имъ, какъ съ женой разставался, плакалъ, проповѣдывалъ имъ что-то, пѣсни они мнѣ пѣли, Христомъ меня называли… Шубу, помню, я здѣсь же продалъ и, какъ потомъ очутился въ Москвѣ, ужъ и не знаю… Знаю только то, что очнулся на Хитровкѣ и что у меня нѣтъ ничего… Ни денегъ, ни бѣлья этого, вышитаго-то, ни платочковъ носовыхъ, ни полотенчиковъ — ничего! Чистъ и голъ, какъ турецкій святой!… Что дѣлать? Куда идти?.. Началось мученье… Не въ холодѣ и голодѣ дѣло… Это наплевать, а вотъ душевная-то мука, которая терзаетъ душу, жалитъ, какъ огнемъ, сердце, растравляетъ, какъ мучительную рану, совѣсть и, вмѣстѣ съ тѣмъ, дѣлаетъ свое великое дѣло, обновляетъ и очищаетъ человѣка! Не знаю, какъ вамъ объяснить, но только для меня въ этомъ есть своего рода невыразимая прелесть… Можетъ быть, этого-то очищенія мнѣ и хотѣлось…
Онъ замолчалъ, думая что-то, и потомъ продолжалъ:
— Остался я на Хитровкѣ жить… Ночевалъ у Ляпина… Питался кое-какъ… Все собирался домой идти, да не успѣлъ… Забрали меня, и вотъ сюда попалъ… Теперь скоро, впрочемъ, выйду… Ну, тогда прямо домой… Хоть замерзать на дорогѣ, наплевать, а только домой, домой!… Жена такъ и стоитъ передо мной въ той позѣ, какъ я ее въ лѣсу бросилъ… Жива ли она?.. Господи! Ну какъ нѣтъ!… Что тогда? Кто виноватъ? Я… Что мнѣ за это?.. Какую казнь? Боже мой, Боже мой!..
Онъ отвернулся отъ меня, закрылся одѣяломъ и замолчалъ.
— Завтра вы не ходите утромъ въ столовую чай пить… все равно толку не добьетесь, — сказалъ онъ изъ подъ одѣяла, — здѣсь напьетесь со мной… У меня чайникъ есть и все… Спите! Прощайте!..
Я не спалъ всю ночь… Масса впечатлѣній, вынесенныхъ въ продолженіе этого безалабернаго дня, до того расшатали нервы, что было не до сна. Забылся и заснулъ я только подъ утро. Но и этотъ сонъ былъ прерванъ оглушительнымъ звукомъ трещотки. Я вскочилъ, не понимая, гдѣ нахожусь и что такое за трескъ раздается около меня. Опомнившись и придя въ себя, я увидалъ сторожа, который ходилъ по всѣмъ тремъ отдѣленіямъ спальни и оглушительно трещалъ на своемъ инструментѣ… Кажется, мертвый и тотъ бы возсталъ отъ этихъ звуковъ… Кромѣ того, онъ оралъ во всю глотку отвратительныя ругательства, заставляя скорѣе вставать и убираться изъ спальни въ столовую…
Мой сосѣдъ не вставалъ… Онъ лежалъ, закрывшись одѣяломъ съ головой, и не подавалъ, такъ сказать, признаковъ жизни. Посидѣвъ на койкѣ и видя, что всѣ одѣваются и уходятъ, пошелъ и я…
На дворѣ было вѣтрено, морозно и совсѣмъ темно… Скорчившіяся фигуры людей, подобно привидѣніямъ, по одиночкѣ и цѣлыми партіями, бѣжали внизъ подъ горку, мимо трубы, въ столовую…
Столовая, биткомъ набитая народомъ, изображала изъ себя настоящій адъ… Въ тускломъ полусвѣтѣ лампъ, окруженныхъ какимъ-то смрадомъ, оборванцы съ фантастически-страшными лицами лѣзли къ столамъ, добиваясь какой-то болтушки вмѣсто чая… Ругань, крикъ, шумъ были страшные!… Дѣло доходило чуть не до драки…