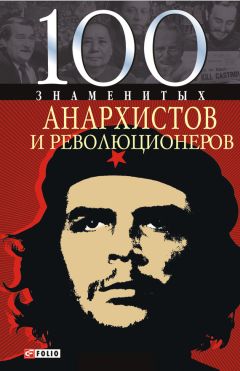Багровое, тусклое, без лучей солнце, окруженное туманным белым кольцом, выпукло торчало в высоком, чистом, зеленом небе. Снег на земле так нестерпимо сверкал бертолетовыми синими блестками, что все время приходилось зажмуривать глаза. Телеграфные провода покрылись пышным, толстым инеем и висели, как белые гирлянды. Белым пухом инея обросли ветви лиственниц.
Затихшая к утру пурга намела сугробы у домов до самых подоконников, а обледеневшие окна казались окровавленными от отсветов багряного солнца. Снег визжал под ногами, как толченое стекло.
Мама обвязала Тиму большой серой шалью крест-накрест, и сама тоже обвязалась платком до самых глаз. Но все-таки оставалась красивой, потому что глаза у нее были очень красивые. А Тима, укутанный шалью, походил на чурку. Редкие прохожие, встречаясь, бросали отрывисто:
— У вас нос! — Или: — Ах, как жаль, такие щечки шелудиться будут!
Это означало, что нужно остановиться, набрать в варежку колючий снег и тереть им обмороженное лицо.
Мама намазала Тиме перед уходом гусиным салом нос и щеки. Наложила ему в проношенные валенки бумаги и поверх куртки велела надеть ее бумазейную кофту, а в варежки напихала ваты. Идти до железнодорожной станции нужно было через весь город, а потом еще по открытому полю версты две. Но Тиме с мамой повезло. Их окликнул знакомый санитар, ехавший на розвальнях:
— Ежели вы папашу навестить, с нашим удовольствием, подвезу. — Потом он сказал весело: — Вот какой сюрприз, приятное соседство, а то, знаете, возишь все время мертвяков, поневоле о живых соскучишься.
— Каких мертвецов? — испуганно спросила мама.
— Наших, сыпнотифозных, — И успокоил: — Вы не тревожьтесь, такой стужи вошь не переносит. Полная гигиена! — Горько добавил: — А вот пациент наш до чего крепкий, дрова в медицинских бараках конфисковали, нечем на паровозах воду кипятить, а эшелоны на фронт гнать надо. Третьи сутки бараки не топим. Петр Григорьевич очень расстроен. Даже ключи от дровяного склада сдавать не хотел. Так его офицеры водили расстреливать за саботаж, так сказать.
— Господи! — простонала мама. — Значит, Петра?..
— Извиняюсь, жив, здоров, в полной форме. Подобное у пас часто происходит. Я думал, вы знаете.
— Как же он спасся?
— А чего тут спасаться? Все обыкновенно. Бежим к солдатам: "Братцы, ваше начальство нашего к стенке повели за то, что он за вашего брата, тифозного, сострадать готов!" Ну солдаты выскочат из теплушек, глядишь, ведут обратно. Жив, здоров. Ну, а после, как полагается, митингуют. Дежурные ораторы из города у нас всегда раньше в бараках грелись. Теперь, конечно, не погреются.
Студено стало. Все равно как снаружи.
— А мне Петр ничего об этом не говорил.
— А чего тут обсказывать? — развел руками в больших меховых рукавицах санитар. — Сказано: все для фронта, господину Пичугину и прочим на пользу, а народу на полное огорчение, — и, показав кнутом на очередь в хлебную лавку, сказал насмешливо: — Любит у нас парод ржаной хлеб без ничего кушать. А в булочной Вытмана пирожными из крупчатки торгуют. Так там никого.
Вот необразованность!
— Зачем же вы над голодными смеетесь?
— А что над ними плакать, — сердито сказал санитар, — если они дуры? Пошли бы к Вытману гуртом на склады, да и побрали бы муку на салазки. Он же, подлюга, за войну сколько нажил! И еще наживет! Ежели только спину свою подставлять, чтобы тебе мелом на ней номер писали оттого, что хлеба ржаного с мякиной хочешь.
Навстречу показались двое саней, накрытые рогожами; между рогожами торчали голые желтые человеческие руки и ноги.
— Вот, — печально сказал санитар, — такой товар возим. А они живые были. Губят народ. И все отчего? От нашего покорства. Похватать бы им, когда еще живы были, винтовки да до дому! Если всех мужичишек с фронта с ружьишками собрать, они власть, как солому, раскидали бы, пошибче, чем в девятьсот пятом.
Город кончался землянками, занесенными снегом выше крыш. А потом потянулось бесконечное белое поле — место городской свалки, там рычали и взвизгивали бродячие тощие собаки, такие злые и остервенелые от голода, что загрызали волков, забредших в одиночку к городским окраинам. Возле серого дощатого забора бойни толпились кучки крестьян в рваных малахаях. Низкорослые, мохнатые коровенки с клещеватыми копытами сиротливо жались одна к другой и испуганно всхрапывали обледеневшими, окровавленными ноздрями.
— Вот, — злобно сказал санитар, — мало что людишек на убой гонят, так еще скотину им веди, — не справляются с налогами, последнюю режут. Ну до чего народ кроткий! Смотреть тошно! И супруг ваш тоже добродушный.
Вчера часы свои продал начальнику эпидемического отряда, ну, прямо задарма. Буре и компания часы. А тот, сука, даже всех денег сразу не дал. Пускай, говорит, у меня походят. Семь рублей задатку дал. А у самого деньги бумажник не вмещает. Спирт весь поворовал. Сулемой только и пользуемся. Шприц скипятить не на чем. Это же абсурд!
— Вы знаете, — сказала мама, — я передумала, мы дальше не поедем.
Санитар остановил лошадь и, глядя мимо лица мамы, произнес неуверенно:
— Вообче-то, конечно, у нас там жуткое дело. Опять же мальчик с вами. Но, если рассуждать по-человечьему, рекомендую Петра Григорьевича удалить от нас хоть на пару деньков.
— Что-нибудь случилось? — испуганно спросила мама.
— Случаев у нас всяких много. Всевозможные бывают. Я сегодня Петру Григорьевичу сообщил: заберут его. Уж очень он, знаете, либерал. Велел братьям милосердия ночью забор разобрать, чтобы печи в бараках исюпить, а за тем забором наши усопшие сложены, разве их всех перевезешь? Ну, солдаты как увидели своих, которые нагишом в штабеля сложены, туда-сюда, митинг, на офицеров покушаться стали по морде. Жандармский унтер из уважения мне сказал: заберут вашего социалиста не сегодня-завтра, а поскольку железная дорога на военном положении, дело короткое. Если смягчение обстоятельств на фронт, а так — взвод, пли — и пульса нет.
— Едемте, пожалуйста, поскорее, едемте!
И мама начала развязывать на голове платок так, словно ей сразу стало жарко.
Санитар провел Тиму и маму через вокзал служебным ходом. Они вышли на перрон, покрытый грязным льдом, и пошли вдоль бесконечного эшелона кирпичного цвета теплушек. Петли на дверях теплушек были прикручены толстой проволокой. Солдаты караульной роты в башлыках и в коротких черных полушубках стояли возле ваюнов, держа на согнутых руках винтовки с примкнутыми штыками. Из теплушек доносились приглушенные голоса, а в одной кто-то пел тоскливую песню.
— Видали? — кивнул головой санитар на связанные проволокой двери теплушек. — Боятся, чтобы не разбежались по дороге. Ружьишки-то им только в окопах дадут.
Не столько от немцев, сколько от своего народа начальство пугается.
Когда уже подходили к концу перрона, из дверей дежурного по вокзалу четверо офицеров в башлыках, в романовских полушубках выволокли одетого в замасленную железнодорожную форму человека с седой, свинцового цвета головой и запачканными кровью седыми усами.
Офицер в черной бурке, накинутой поверх полушубка, отороченного серым каракулем, пиная железнодорожника на ходу в живот, хрипло спрашивал:
— Значит, не исправлен паровоз, говоришь? Не поправлен? Ну, обожди, мы тебе мозги вправим!
Офицеры сбросили человека с перрона, потом подняли и поволокли, держа под руки, к водокачке.
С круглой кирпичной башни водокачки свисала жестяная труба, подвешенная за проволочную дужку к большому чугунному крану. Один из офицеров снял с себя ремень, наклонился над человеком и связал ему ноги. Дру; гой офицер поднял полы полушубка, отстегнул тонкий брючный поясок и скрутил им руки железнодорожника.
Потом офицеры все разом отскочили от человека, лежащего на льду, и один из них скрылся в башне водокачки…
Вдруг клокочущая, окутанная морозным паром толстая струя воды ударила в корчившегося на земле человека.
Мать схватила Тиму за плечи, прижала его лицо к себе и повела куда-то…
Тима и до этого знал многое о жестокости людей.
В Банном переулке, где жили Сапожковы, часто происходили по воскресеньям драки между татарами-скорняками и слободскими пимокатами. Дрались стенка на стенку, в кровь. Но потом все вместе на завалинках мирно обсуждали, кто кого как ударил, гордились силой. И пимокат Кузмишников, опустившись на корточки, клал себе на плечи, как коромысло, бревно, усаживал на него четырех здоровенных татар-скорняков, подымал и переносил й& всех через дорогу. Потом говорил, вздыхая:
— Если бы я каждый день досыта ел, не то бы мог!
На пристанях речные грузчики тоже дрались между собой. Но каждый раз за правилом боя строго следил старшина артели, высокий старик с рваной щекой, разъеденной волчанкой.