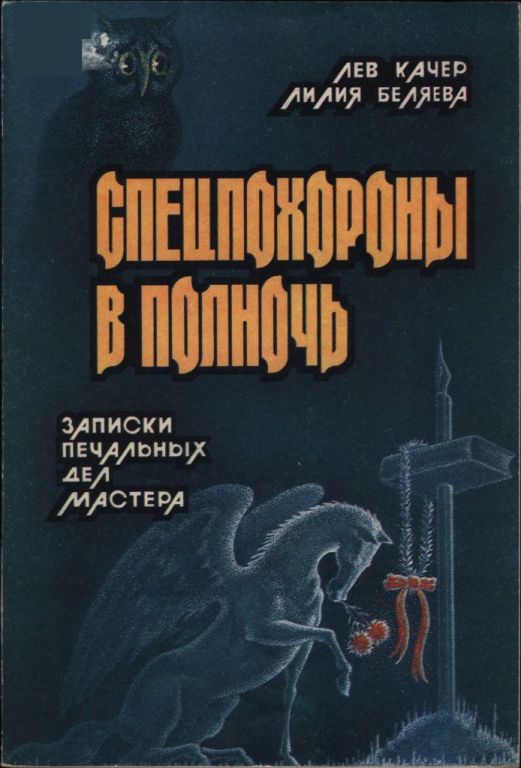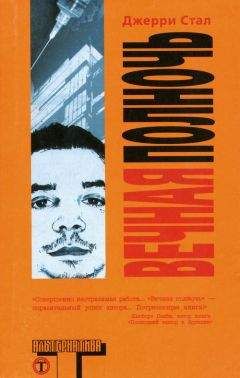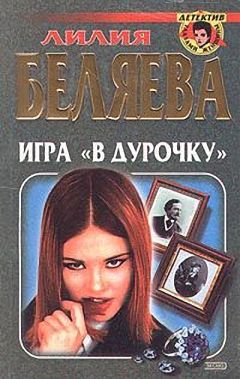тишине кладбищенской конторы было слышно его прерывистое, словно на бегу, дыхание… Изредка потрескивал табак в его знаменитой трубке… Человек бешенного темперамента, с вечно горящим взглядом темно-карих глаз, умевший в мгновение реагировать на любые реплики, он сидел за бедным казенным сколом, почти не двигаясь. Овечий тулуп углами топорщился вокруг его худого, почти невесомого тела… Я знал, что жену он любил. Но когда услыхал в этой тишине его мерный, глухой голос: "Я любил ее", — мороз по коже… Хотя в голосе поэта не звучало отчаяние, не было надрыва — констатация… Потерял и остался в полном, неисправимом сиротстве… Не плачется, нет, и не ждет никаких слов сочувствия, нет для него таких убедительных слов… Он много чего передумал и постиг, у него в глазах — усталость мудреца, который и о смерти размышлял не на бегу.
И это он писал в сороковых роковых так пронзительно и больно:
Одна из многих войн в потоке, Моя любовь и мой герой, — Он спит не в мраморном чертоге, А как солдат в земле сырой. Он спит. Вверху гуляет ветер. Кружится снег. Идет весна. Все ярко. Но ничто на свете Не будит юношу со сна. Он спит. А мне дано на тризне Без сына править торжество И превратить в подобье жизни Жизнь, отнятую у него.
И еще тогда же, в военное лихолетье:
Фронт ушел туда, на Запад, В черный дым, в туман сплошной. Лишь прожектор в белых лапах Держит небо надо мной. Я хотел бы так же точно Ослепить глаза врага, Чтобы он в стране восточной Камнем рухнул на снега. Пусть бегут столетья мимо, Звезды попусту скользят. Здесь почил мой сын любимый Тыщу лет тому назад.
Могильщики все искали где-то там во мраке подходящее место для могилы… А мы курили… перебрасывались незначительными фразами… Передо мной, я уже тогда это отчетливо понимал, "сидела" Эпоха со всеми свойственными ей романтическими порывами и разбитыми вдребезги надеждами на скорейшее сотворение рая на земле… Перед этим самым голым, казенным столом, пахнущим унынием кладбищенских, достаточно скандальных и обюрокраченных будней. А ведь я знал — Павел Григорьевич очень любил скопление народа, веселье, озорные застолья. Чтоб стол ломился от яств, сверкали бокалы, пестрели цветы, чтобы кто-то кого-то целовал, хвалил, читались стихи, звенел смех. Он для многих распахнул дверь в Поэзию уже одним своим яростным заверением в наличии способностей и таланта. Недаром Белла Ахмадулина посвятила ему одно из ярких своих стихотворений.
О, как много значит в любом деле доброжелательная поддержка Мастера!
Пригорбленный, придавленный горем, он и тут нашел повод посочувствовать другим. Помню отчетливо то, что сказал о Борисе Пастернаке:
— Я же с Борей с детства дружил. И этот факт сыграл в моей жизни свою роль. Литначальство решило, что именно я смогу побеседовать с Борисом, попрошу его извиниться через газету, и — он меня послушается. За что извиниться? Ну да это же очень громкая история! На Западе вышел его роман "Доктор Живаго". У нас он был признан "непечатным", "задевающим", "оскорбляющим" ну и так далее. Вот за то, что роман появился "у них", Пастернаку, по решению всяких "органов", и следовало извиниться. Я, конечно же, знал, что ничего из этой затеи не получится. Но поехал к Боре повидаться, поговорить "за жизнь"… Поговорили. Я признался ему, зачем начальство пожелало нашей с ним встречи, какое "особое задание" я получил… Пастернак, этот вечный ребенок с выпученными глазами, оторопело спросил: "Павел! А в чем, в чем я виновен? Написал роман, хотел, чтобы его читали…" Сколько нелепости вокруг! И после культа Сталина надо еще пережить "экспрессивную" малограмотность Хрущева, а теперь вот новый "пророк" ведет нас все к тем же "высотам коммунизма"…
И снова тишина. Только изредка морозный ветер погромыхивает за окном какой-то жестью, возможно, табличками с ценой, прикрепленными к образцам памятников и надгробий.
И снова глуховатый, словно из бездны времени, голос Антокольского:
— Есть у меня очень нелюбимый человек, можно сказать, ненавистный. Это, как ни странно, — Шолохов. Я знаю его с юности. Хороший был, очень хороший. Но не сохранился. Его испортила "система". Жаль. Ходят слухи, и упорные, будто это не он автор "Тихого Дона". Нелепица. Шолохов — огромный талант, и я убежден — написал "Тихий Дон" он сам. И нечего тут плести черт знает что! — и стукнул своей массивной темной палкой, как царь Иван Грозный во гневе.
… Когда в свежевырытую могилу Востряковского кладбища опускали гроб с телом его жены, — сказал мне:
— Это место и для меня, будем опять рядом… Только к ней.
— Это все происходит, пока другие спорят, есть любовь или нет, ждать ее, свою единственную, или необязательно…
Своей любимой Зое почти восьмидесятилетний старец посвятил такое вот стихотворение:
Без шуток, без шубы, да и без гроша Глухая, немая осталась душа. Моя или чья-то, пустырь или сад, Душа остается и смотрит назад. А там — кладовая ненужных вещей, Там запах весны пробивается в щель. Я вместе с душой остаюсь в