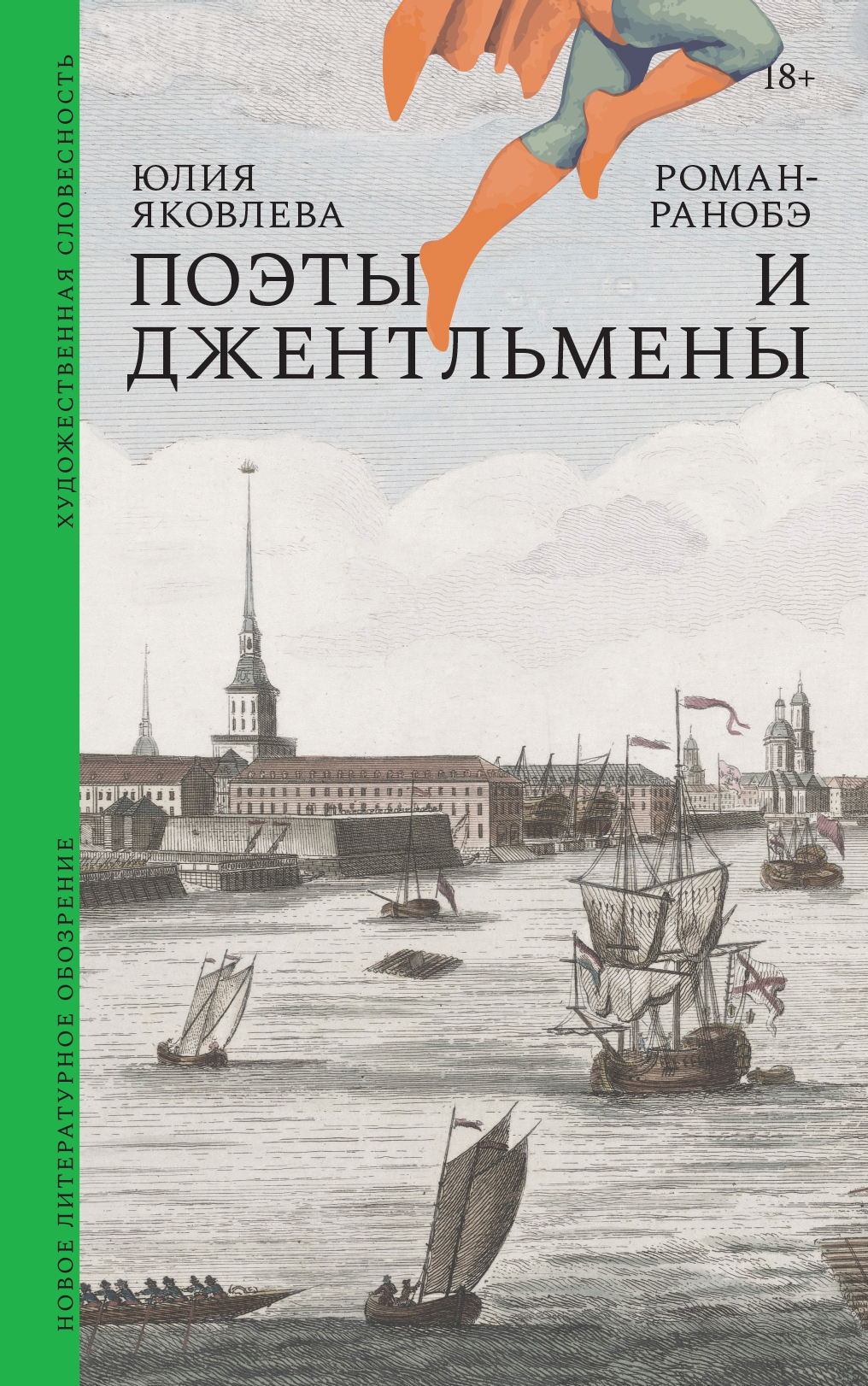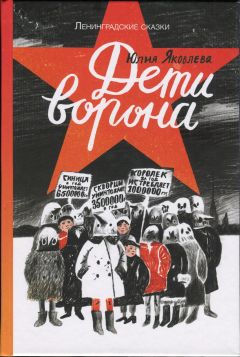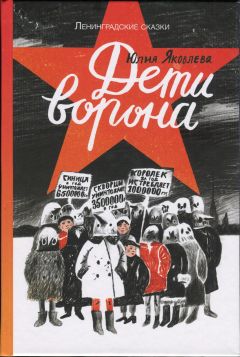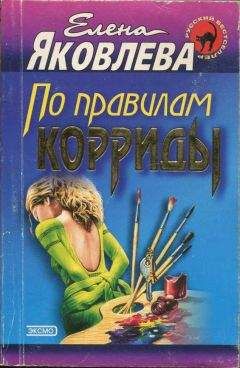сжался в нитку. Нос был острым, как у трупа. Веки сомкнуты. Одеяло на груди почернело – кровь пахла железом. Последний приступ чахотки. Кровь была и на бородке. Блестели на столике пузырьки. Даль осмотрел этикетки. Висмут. Морфий. Опий. Героин.
Когда он поставил обратно бутылочку с героином, пациент открыл глаза.
– Врач? – просипел по-немецки с сильным русским акцентом.
Даль кивнул.
Щель рта изогнулась в улыбке, зубы были перемазаны кровью. Лицо повернулось в сторону, взгляд остановился.
– Налейте.
Даль проследил за взглядом больного. Увидел серебряное ведерко, в салфетке почивала запотевшая бутыль.
Пациент пояснил:
– Ich sterbe.
«Я умираю». Кодекс чести врача перед умирающим врачом: поднести коллеге последний бокал. Даль отставил ведерко подальше.
Засуетился. Поднял и взбил подушку, помог больному сесть. Тот закашлялся, обрызгав Даля кровяной пылью. В груди его звуки клокотали так, будто она была пустым ящиком. Даль невозмутимо вытер свое лицо, рукав пиджака, той же салфеткой отер пациенту кровь с бородки.
– Ich sterbe, – несколько капризно повторил тот.
Даль и ухом не повел. Пациента это, видимо, слегка задело. Он посмотрел Далю в лицо:
– Вы не Швёрер.
– Нет, – ответил Даль по-русски. – Я не он.
Пациент кивнул:
– Вы галлюцинация, – умиротворенно заключил, откидываясь на подушке. – С такого-то компота. – Он покосился на аптечные пузырьки и закрыл глаза.
Даль со вздохом взял из ведерка тяжелую холодную бутылку. Глянул на этикетку: «Вдова Клико». Недурно. Стал теребить пробку:
– Как изволите. А только у меня к вам вопрос.
Глаза не открылись.
– Вы умеете оперировать контузию бедра?
Хлопнула пробка, Даль придержал ее ладонью. Положил на прикроватный столик. Подставил под шипящую струю бокал. Пациент никак не мог справиться с удивлением:
– Умею ли я? Контузию бедра? Гм. Смотря по случаю, – наконец вымолвил.
– Случай опишу. Огнестрел в нижний отдел брюшины. – Даль с энергичной деловитостью показал на себе. – Вот сюда. Большая кровопотеря. Около сорока процентов. Первую помощь оказал… гм… акушер.
Пациент смотрел круглыми глазами. «Продолжайте», – прочел в его взгляде Даль.
– Переломы крестцовой и подвздошной кости…
– То есть раненый парализован ниже пояса?
– Нет. – Теперь настал черед Даля удивиться. – А должен был?
Но коллега уже перехватил вожжи:
– Анальное недержание? Непроизвольное мочеиспускание?
– Нет.
Пациент фыркнул, но успел прижать к губам салфетку. Отнял с кровавым пятном:
– Тогда крестец не переломан.
– Хм. Выходит, нет, – растерянно согласился Даль.
– Врач, я гляжу, вы тот еще… Ну? Что еще?
– Пульс сто двадцать. Вздут живот.
– Перитонит.
– Перебита бедренная вена!
На этот раз больной фыркнул, не успев прижать салфетку. Кровь веером обдала одеяло.
– Так он помер на месте!
– Вовсе нет! Нет. Его перевезли домой.
– Значит, бедренная не перебита, вы остолоп! Кровотечение из бедренной вены убивает в считаные секунды. Где вы учились медицине?
Даль был ошеломлен. Выходит, он ошибся? И Арендт, Спасский, Андреевский тоже? Все они ошиблись?
– В Дерптском университете, – пробормотал. Бокал нагревался в его руке.
– Шампанское, – напомнил пациент.
– Ах, простите!
Даль подал ему бокал:
– Так что же делать?
Тот пожал костлявыми плечами, с которых чахотка согнала плоть:
– Положить раненого под эфир. Нижний серединный разрез. Вынуть выпот и кровь. Иссечь поврежденную кишку, восстановить непрерывность кишечной трубки. Рассечь раневой канал. Извлечь пулю и осколки костей, кусочки ткани. Санировать и дренировать брюшную полость. Все.
– Он выживет?
Теперь пациент и сам забыл про бокал, который держал в руке:
– Сколько пациенту лет?
– Тридцать семь… С половиной.
– Физическое состояние? Анамнез? Имеющиеся болезни?
– Отличное. Великолепный. Никаких.
– Может, да. Может, нет. Уповать на антисептику и собственные силы организма. С кишками никогда не угадаешь. Бактерии, знаете, пресволочные создания.
За дверью в коридоре послышались голоса. Театрально взволнованный женский. Хриплый юношеский. Дородный мужской – очевидно, найденный доктор Швёрер. Время истекло!
– Но вы взялись бы?
– Оперировать?
– Спасти!
Ручку двери тряхнули. Потом сильно ударили ладонью в дверь. «Антон Павлович! Антон Павлович!»
– Ну? – схватил его Даль за острое плечо. – Взялись бы или нет?
– Взгляните на меня, – вяло отвел его руку Чехов. – Я сам почти труп.
– Пустяки! Я все вам объясню по дороге!
Черты лица сразу обмякли. Он снова закрыл глаза. Бокал в руке опасно накренился.
– Взялись бы или нет?
За дверью бушевало. Женщина: «Антон Павлович! Антон Павлович!» Мужчина: «Коридорный! Ключи! Принесите ключи!» Женщина: «Ломайте же! Ах!» Несколько раз бухнуло – видимо, доктор или студент боднул дверь плечом.
Даль в панике обернулся на дверь. На Чехова. На лице у того проступило легкое отвращение человека, которого никак не оставят в покое:
– Голубчик. Я умираю.
Даль ждать не мог:
– А если я вам скажу имя… этого пациента…
Даль в отчаянии прильнул к самому его уху, придерживая слова ладонями по обе стороны. Отпрянул:
– …вам решать! А ежели хотите дальше умирать, так вперед!
Чехов поднял бокал, посмотрел на пузырьки, тоненькими ниточками взбегавшие к поверхности:
– Давно не пил шампанского.
Пригубил, его губы оставили на хрустале кровавый полумесяц. Скривился:
– Теплое… говно.
Но по глазам его Даль прочел все. Теперь следовало спешить. Он щелкнул замочками саквояжа, окунул в его нутро обе руки, когда Чехов опять заговорил капризным тоном тяжелого пациента:
– Но только я хочу похороны.
– Что за ребячество.
– Я все для них уже придумал!
Времени спорить не было. Времени вообще не было.
– Как скажете.
Даль со вздохом покачал головой и покрепче схватился в саквояже за…
Петербург. Июль 1904 года
Пахло дегтем, углем, дымом – короче говоря, вокзалом. Под крышей порхали чумазые воробьи. Оркестр выдувал что-то медное. Встречал генерала Келлера – прямиком с театра военных действий в Маньчжурии. Гавкали команды. К запруженному перрону подползал, работая железным локтем, паровоз, как бы дотягивая вагоны из последних сил. Первый класс, второй.
Толпе на генерала было наплевать – толпа отхлынула к третьему классу.
Дамы начали смахивать слезы, одной рукой прижимая букетики. Студенты сняли фуражки. Все тянули шеи, подбородки. Студенческий староста торопливо взобрался на принесенный ради этого ящик. Вынул из-за пазухи листки. Начал речь:
– Россия встречает прах своего великого сына…
Его не слушали.
Наконец подполз последний вагон.
Траурных лент на нем не было. Не было ни венков, ни еловых лап.
Он был строг и опрятен. Как полагается рефрижератору. Крупно читалась деловитая надпись:
«СВЕЖИЕ УСТРИЦЫ».
Толпа ахнула. Дамы всхлипывали, закусив платочек. «Какая пошлость! О, какая страшная пошлость!» «Тому, кто всю жизнь клеймил пошлость!..» Юноши, сдвинув брови, переглядывались. Оратор маячил над толпой, забыв про листки в руке.
Сначала вынесли ящики со свежими устрицами – ибо товар был нежный, скоропортящийся, петербургские рестораторы не могли ждать. Тут же подскочили бравые молодцы в фартуках – грузчики. И еще более бравые – приказчики с накладными в сиреневых печатях. Этим устрицам предстояло быть съеденными сегодня и завтра. В основном сегодня, потому что по средам в Мариинском театре давали балет, а после балета все ехали ужинать, прихватив танцовщиц кордебалета, у которых после физических упражнений разыгрывался чудовищный аппетит.
Потом вынесли гроб. На него тут же упала маленькая черноглазая женщина в траурном платье и задорной черной шляпке с вуалеткой в мушках. Всхлипнула. Но не забыла быстро и ловко расправить ленты на венке, приколоченном к крышке. Теперь была видна надпись. «Чехову – от МХТ». Дама убедилась, что видна хорошо. Сжатое деловое выражение на ее лице