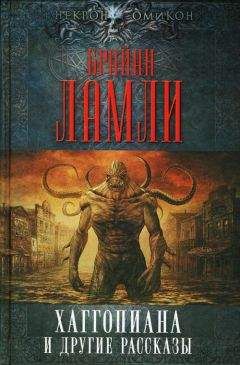на обочине, лежал круг света, краем накладывавшийся на соседний. Это были множества и пересечения множеств. Про них недавно рассказывал ему на уроке пан Хенрик. Он бы хотел сейчас сказать ему это, показать множества и их пересечения, лишь бы пана Хенрика больше не тошнило. Тот сейчас стоял, прислонившись к каменной ограде, и глубоко дышал.
Откуда-то снизу, видимо из какой-то корчмы, доносились мужские голоса, которые под музыку фальшивящего духового оркестра пели строевую песню, отбивая ногами ритм по деревянному полу.
“Vincere о morire…” («Победить или умереть» – лат.) – долетело до них.
– О чем они поют? – спросил мальчик.
– Это итальянский язык, – сказал отец.
– Они поют о победе и смерти. Или одно, или другое, говорит песня. Третьего в их жизни нет, – сказал пан Хенрик.
– Как можно о таком петь? В этом нет никакого смысла, – дивился мальчик.
Они ненадолго остановились в темноте, на широкой обочине, чтобы отдохнуть. И больше не разговаривали.
Давид почувствовал какой-то неизвестный ему приятный запах, который смешивался с запахом сосновых иголок и смолы. Он внюхивался в этот запах как охотничий пес.
Потом они продолжили движение на юг, в сторону Кралевицы и Цриквеницы.
Тот запах оказался запахом моря. Теперь он был повсюду вокруг них, наполнил кабину «мерседеса» – казалось, они едут не в машине, а в аквариуме с морской водой.
«Сладкая малышка Марианна…» – пан Хенрик затянул далматинский шлягер. Он приосанился и пытался побороть тошноту.
– Сюда мы еще вернемся, – мрачно проговорил отец, когда они проезжали через Кралевицу.
Настоящие приключения, те, которые Давид не забудет, покуда жив, начались вскоре после Цриквеницы, на месте, где дорога оказалась завалена камнями после недавнего обвала и автомобиль проехать не мог.
Томашу Мерошевскому пришлось решать: вернуться ли назад в Цриквеницу, где было бы можно снять дом и без заранее обдуманного плана провести там следующие две недели, или же пешком преодолеть целых семнадцать километров до отеля, что в горах, куда, видимо, не было вообще никакой дороги.
По правде говоря, он даже не был уверен в том, что тот отель существует.
Он сидел на каменном дорожном столбике на засыпанной камнями обочине, смотрел и слушал, что говорит Хенрик, который, как какой-нибудь турок, уселся на коврик посреди луга и объяснял мальчику систему времен французских глаголов. Хенрик был вполне бодр, хотя они всю ночь не спали. И был доволен, что дальше не проехать, а значит, его не будет тошнить.
Старику все безразлично, он вообще не думает о том, что будет завтра, в какой постели он проведет ближайшую ночь и будет ли над его головой хоть какая-то крыша или одно лишь звездное небо. Ему безразлично, думал профессор, совсем впал в детство, негодовал он.
Будь сейчас двадцать какой-нибудь год, те времена, когда было известно, кто что делает и где чье место, когда и сам он был в расцвете сил, и перед ним трепетали от страха не только в Краковском университете, он немедленно выгнал бы Хенрика Миллера, моментально уволил бы его, и пусть тот хоть пешком в то же утро отправляется обратно в Краков. Такое пошло бы ему на пользу, пусть немного поразмыслит, поймет, что жизнь – это не беззаботное порхание по миру, не лежание на лугу и не перечисление французских глаголов.
Жизнь – это вечная борьба, думал профессор, в которой побеждают сильнейшие, а о слабых должны заботиться церковные богадельни.
Он даже покраснел от неожиданного приступа злобы.
Ему очень хотелось вскочить и закричать на Хенрика: «Что вы себе позволяете, побойтесь Бога, что это за манеры, что за поведение?», и мысленно он так и сделал, он представил себе, как переходит на другую сторону дороги, а старик растерянно смотрит на него, стоя на коленях посреди луга, словно молится, словно собирается с силами, чтобы встать, спрашивает: «Простите, что случилось?», и, как всегда в драматические моменты, обращается к нему на вы таким тоном, каким словацкая служанка обращается к истеричной даме из варшавской семьи, разбогатевшей на военных поставках…
В этот момент профессор устыдился, силы внезапно покинули его, и он был счастлив, что все это лишь плод его волнения и разыгравшегося воображения.
Счастлив, как и всегда раньше, что не бросился на Хенрика Миллера, старого товарища, единственного, кто оказался готов уйти с государственной службы только для того, чтобы стать учителем его несчастного сына, что не схватил его за шиворот и не вышвырнул из своей жизни. И снова, правда лишь на миг, ему показалось, что все-таки именно так и следовало бы поступить.
Да, такое случалось, время от времени им овладевал неконтролируемый гнев.
Важно просто выдержать припадок, продолжается он обычно недолго, пять, максимум десять минут, после чего делается стыдно. Это как с сигаретами у того, кто бросил курить: приступ накатывает каждые два-три дня, длится недолго и потом проходит.
Боже милостивый, да что бы я сейчас без них двоих делал, грызла его совесть, пока Ружа и Хенрик, с головой ушедшие в свои дела, превращали луг во временное пристанище Мерошевских.
Он смотрел на них и думал, как ему поступить. Кто-нибудь другой вернулся бы в Цриквеницу и провел в этом прелестном приморском городке две недели. Это был бы прекрасный отдых, который наверняка ничто бы не нарушило. И все пошло бы своим чередом так, как и было задумано когда-то давно и как было начато в тот день, когда Эстер обнаружила на ноге мальчика безобидный узелок.
В Цриквенице все продолжило бы неумолимо развиваться, время бы ускорилось и потекло дальше, к своему концу, так же, как это произошло бы и в любом другом случае, что бы он ни предпринял и как бы ни поступил.
Вернуться в Цриквеницу было бы разумно, но что-то заставляло его продолжить путь туда, куда он и намеревался попасть от самого Кракова – в маленький немецкий отель, который ему несколько лет назад так красочно описывал югославский дипломат и поэт, его старый, еще по довоенным временам, знакомый. Но вдруг этот отель в горах был всего лишь плодом его поэтического воображения? Или выражением симпатии, которую не удалось высказать с помощью чего-то реального, и она превратилась в фантазию?
Он познакомился с тем человеком, когда тот был еще юным студентом философии, родом из мрачной ориентальной Боснии, нищим, как индуистский отшельник, и чахоточным, какими и были обычно почты из бедных и влажных окраин Габсбургской монархии.
Впервые он увидел его однажды вечером, в Страстную пятницу, сидящего в аудитории над тонкой, потрепанной книжечкой стихов Гейне, он читал их и пытался