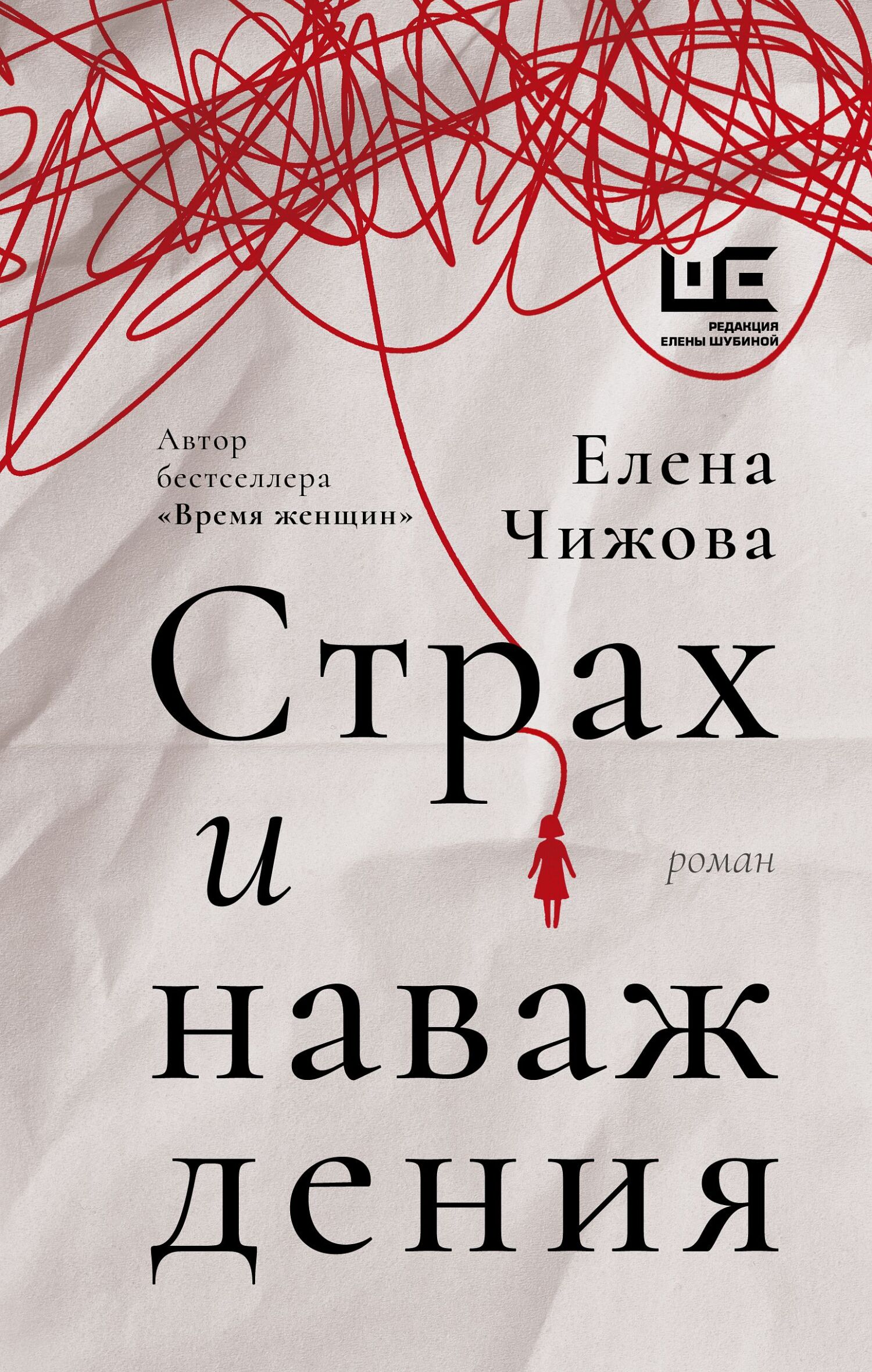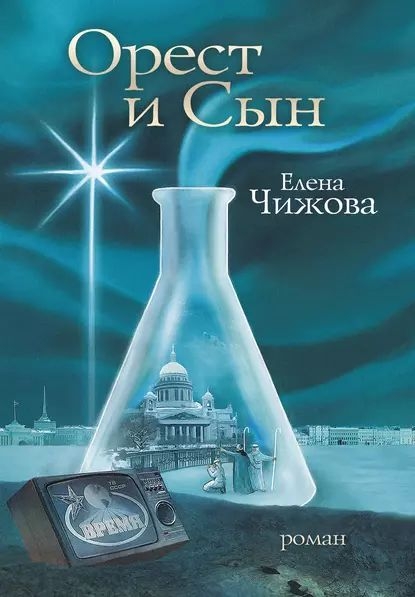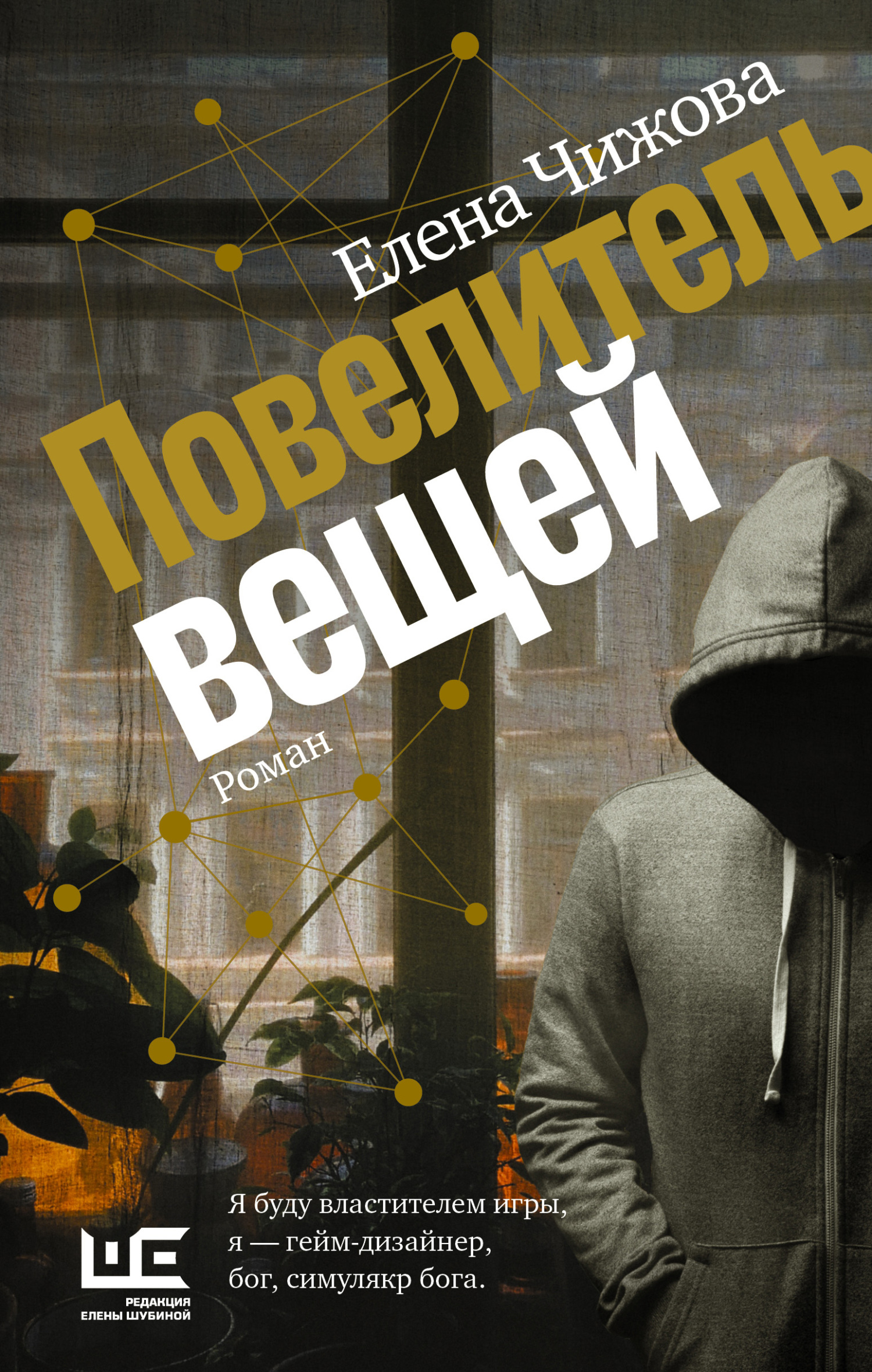что по нынешним временам уже немало. Учитывая все происходящее.
– И как ты с этим живешь?
Мне хочется спросить: а ты? Но я боюсь. Мы не виделись целых два года – кто знает, что она ответит.
– Не живу. Выживаю. – Я отвечаю уклончиво. Пусть думает, что мой ответ касается воды. Чистой, а не этой, ржавой, которая льется на наши головы. Наши бедные, несчастные головы…
– Ты звонила в аварийку? Если авария, пусть устраняют…
– А вдруг уже включили?
– Как это – вдруг? Погоди, а ты сейчас где?
– Дома, – в моем ответе сквозит неуверенность, но она этого не слышит. Говорит: – Так пойди и проверь.
Я иду в кухню. Открываю водопроводный кран – струя с шумом вырывается наружу. Словно это не кран, а водопад в глубине моей одинокой пещеры.
– Вот. Оказывается, все хорошо. Ты зря паниковала.
Мне хочется сказать: не зря. Но я говорю:
– Утром я улетаю.
– Куда?
Я мысленно листаю фотографии, хранящиеся в смартфоне. Наудачу выбираю одну. На меня смотрит сморщенная мордочка гаргульи. Этих каменных уродов рассаживали по стенам готических соборов с двоякой целью: отвести потоки дождевой воды от фундамента и одновременно показать всякой бесчинствующей нелюди, что в конечном счете случается с теми, кто сознательно вредит людям.
– Круто. А ты уже там бывала?
Видимо, да – иначе откуда взяться фотографиям. Хотя и это не доказательство: все снимки в моем смартфоне пустые, меня там нет. Терпеть не могу фоткаться на фоне достопримечательностей: типа, я и собор Парижской Богоматери; я – и Британский парламент; я – и Голова Кафки.
Вчера, идучи по городу, я вглядывалась в лица прохожих: о чем они думают – сейчас, когда гусеницы тяжелых танков ломают хрупкие асфальтовые дороги.
Сквозь прорехи в разорванном далекими взрывами пространстве виднелась огромная голова. Маленький чешский еврей, ставший великим писателем, смотрел на меня тяжелым напряженным взглядом: вспомни танки, рушащие брусчатку; вспомни мощеную площадь, где уже которое десятилетие пылает костер, пожравший тело человека, не пожелавшего смириться с властью оккупантов.
Человеческая память залита водой. Струи воды размывают самые прочные фундаменты. Что толку кивать на прошлое, когда мы не помним, что с нами было вчера.
Вчера я шла в парикмахерскую. Визит был запланирован заранее; если бы не отъезд, я бы все отменила: снявши голову, по волосам не плачут – тем более не делают модельных стрижек, предварительно закрасив седину.
С моей парикмахершей, молодой, приятной в общении женщиной, мы знакомы давно; садясь в кресло, мне не надо ничего объяснять. Все, что ей следует обо мне помнить, записано у нее в тетрадке: дата последнего посещения, номера профессиональных красителей, пропорции, в которых она их смешивает. Но я все равно говорю: у меня вьющиеся волосы, чтобы челка не подпрыгнула, надо стричь ее по сухому. В ответ она улыбается: не беспокойтесь, я все прекрасно помню.
Я тоже помню – все, что она успела о себе рассказать. Таганрог, где она родилась, город маленький, хорошую работу найти трудно; лет десять назад, обсудив и взвесив все «за» и «против», они с мужем решили перебираться в Петербург. На ее месте я сказала бы иначе. По-настоящему они никуда не перебрались: все, о чем она мне рассказывает, происходит не здесь, а там. Дом с огромным, вместительным погребом – полки, заставленные домашними заготовками; друзья, в чьей компании они с мужем проводят отпуск; наконец, старая отцовская «волга» – каждый год они путешествуют по Крыму; когда построили мост, стало намного легче. «А раньше?» Я плохо знаю географию. «Труднее», – она ответила, не задумываясь. Я спросила: «Почему?» В ответ она пожала плечами: дескать, кто не понимает, тому не объяснишь. Да я и не настаивала. Для разговоров в парикмахерской полно других тем.
Например, поговорить о ковиде. Тут между нами нет разногласий. Мы обе – сторонницы прививок, не понимаем упорства антиваксеров, готовых рисковать жизнью; и ладно бы, она говорит, своей. А то ведь ходят, сеют заразу! Вредят ни в чем не повинным людям.
Прошлой весной она посетовала на то, что приезжим не так-то просто поставить вакцину (я кивнула, стараясь не обращать внимания на это ее «поставить», царапнувшее мой ленинградский слух; в наших разговорах таких сомнительных словечек много: «закупиться» – вместо «купить»; «цéпочка» вместо «цепóчка». Я ее не поправляла. Раз и навсегда решив: с моей стороны – чистый снобизм).
Однажды, сверяясь со своей тетрадкой, она засмеялась и сказала: «Здесь – все мои клиенты. Хотите знать, как я вас записала?» Я кивнула. Скорее, из любопытства. «А вы не обидитесь?» – она бросила короткий, испытующий взгляд, еще больше подстегнув мое любопытство; а потом смущенно, я бы даже сказала, трогательно, промолвила: «Ирина-Ленинградка». Заглянув в ее тетрадку, я заметила, что оба слова написаны с прописной буквы. Такая вот странная история, из которой я сделала вывод: не только я – она тоже ко мне прислушивается; и что-то про себя отмечает.
В другой раз, когда я упомянула дачу, где обычно провожу лето, она поделилась своей мечтой. Сейчас они с мужем снимают квартиру, но однажды купят дом – здесь, в Ленинградской области; она уже сейчас знает, как все будет устроено. «И как же?» Она заметно оживилась, даже выключила фен. «Как у нас, в Таганроге: сад, огород. Насчет свинарника не знаю, пока что не решила, но курятник – обязательно. Знаете, дома мы всегда заготавливаем мясо. У меня отличный проверенный рецепт. Открываешь, не поверите: свежее; будто вчера зарезали».
Этот давний разговор я вспомнила, когда садилась в кресло: что, если она заговорит о курятнике, где выращивают несчастных цыплят – чтобы пустить под нож.
– Что-то не так? – она спросила, видно уловив что-то непривычное в моем упорном молчании; я не ответила, и она продолжила. – Вы сегодня… какая-то другая. У вас неприятности?
– Не знаю. Как-то всё… навалилось, – я сделала жест, словно забирая все, о чем в этот момент думала, в один большой замкнутый круг.
– Ах, так вы об этом! – она воскликнула облегченно. – Не беспокойтесь. Поверьте, уж я-то знаю. Два-три дня – и все закончится. Наши друзья, там, – она махнула рукой, по-видимому, в сторону Таганрога, где, я вспомнила, родился Чехов, – так вот, наши друзья, они офицеры. Неделю назад муж им звонил…
– Неделю? Но… – Я останавливаю себя: если кто-то нас услышит, может подумать, будто я под предлогом разговора выведываю страшные военные тайны.
– Знаете, они даже рады. Говорят: сколько можно вошкаться! Войдут, зачистят – и назад…
Жаль, что я упустила момент, не объяснила ей, что в переводе с греческого означает мое имя. Теперь уже поздно. Замкнутый круг времени начинает