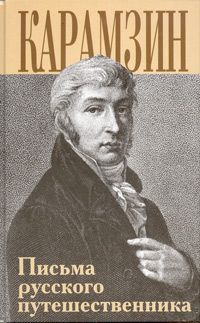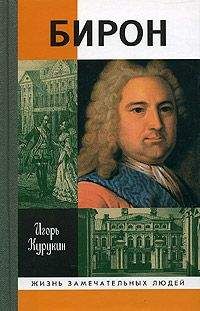Я взглянул на окно и увидел горшок с розами. Подле него стояла молодая женщина и держала в руках книгу – верно, «Sentimental Journey»!
«Благодарю вас, государь мой, – сказал я словоохотному французу, – но если позволите, то я спросил бы еще». – «Где тот каретный сарай, – перервал офицер, – в котором Йорик познакомился с милою сестрою графа Л*?» – «Где он помирился с отцом Лорензом и… с своею совестию». – «Где Йорик отдал ему черепаховую свою табакерку и взял на обмен роговую?» – «Но которая была ему дороже золотой и бриллиантовой». – «Этот сарай в пятидесяти шагах отсюда, через улицу, но он заперт, а ключ у господина Дессеня, который теперь… у вечерни». – Офицер засмеялся, – поклонился и ушел. – «Господин Дессень в театре», – сказал мне другой человек мимоходом. «Господин Дессень на карауле, – сказал третий, – его недавно пожаловали в капралы гвардии». – «О Йорик! – думал я. – О Йорик! Как все переменилось ныне во Франции! Дессень капралом! Дессень в мундире! Дессень на карауле! Grand Dieu!» (Великий боже! (франц.). – Ред.) – Смерклось, и я возвратился в свой трактир.
Что вам сказать о Кале? Город невелик, но чрезвычайно многолюден, – и англичане составляют по крайней мере шестую часть жителей. Домы невысокие – в два этажа, а роскошь видна только в одних трактирах. Впрочем, все кажется мне здесь печальным и бедным. Воздух напитан сыростью и тонкою морскою солью, которая неприятным образом щекотит нервы обоняния. Ни для чего в свете не хотел бы я жить здесь долго!
За ужином ели мы прекрасную рыбу и свежих морских раков, отменно вкусных. Тут сидело человек сорок; между прочими семь или восемь англичан, которые только что переехали через канал и намерены странствовать по всей Европе. С ними был один италиянец, великий говорун и великий трус; худым английским и французским языком рассказывал он о многих опасностях, угрожавших ему и товарищам его на море. Англичане смеялись и называли его Улиссом, который пугает царя Альциноя повествованием о страшных небылицах (См. «Одиссею».). Между тем они беспрестанно кричали трактирщику: «Вина! Вина! Самого лучшего! Du meilleur! Du meilleur!» (Самого лучшего! (франц.). – Ред.), и розовое шампанское лилось из урны своей не в рюмки, а в стаканы. Оно так хорошо алело в стекле, так хорошо пенилось, что и умеренный друг ваш, не спрашивая о цене, велел подать себе бутылку – du meilleur! Du meilleur! Прекрасное вино! Немец с длинным носом, сидевший подле меня, доказывал убедительным образом, что оно и цветом и вкусом похоже на божественный нектар, который излился из рогов святой козы Амальтеи (Так говорит мифология.). «Мы давно слышали, – сказал один из англичан, – что немцы – ученый народ; теперь верю этому. Vraiment, Monsieur, vous etes savant comme tous les diables!» (Правда, сударь, вы чертовски образованный человек! (франц.). – Ред.) – Германец улыбался и был сердечно доволен заслуженною похвалою.
Я пришел в свою комнату, бросился на постелю и заснул, но через несколько минут разбудил меня шум веселых англичан, которые в другой горнице кричали, топали, стучали и проч. и проч. С полчаса я терпел, наконец кликнул слугу и послал его напомнить британцам, что они не одни в трактире и что соседи их, может быть, хотят тишины и спокойствия. Сказав несколько раз «Год дем», они замолчали. – Рука не пишет более – простите!
Кале, 10 часов утра
Узнав, что пакетбот наш не отвалит от берега прежде одиннадцати часов, я пошел бродить куда глаза глядят – очутился за городом, близ кладбища, обсаженного высокими деревьями, и вспомнил могилу отца Лоренза, где Йориковы слезы лились на мягкий дерн,- где в одной руке держал он табакерку добродушного монаха, а другою рвал зеленую траву. – «Патер Лорензо! Друг Йорик! – думал я, облокотившись на один мшистый камень. – Где вы, не знаю; но желаю некогда быть с вами вместе!»
У ног моих синелись цветочки; я сорвал два и спрятал в записную книжку свою. Вы их увидите некогда, – если волны морские не поглотят меня вместе с ними! – Простите!
Пакетбот
Мы уже три часа на море; ветер пресильный; многие пассажиры больны. Берег французский скрылся от глаз наших – английский показывается в отдалении.
Вместе с нами сели на пакетбот молодой лорд и две англичанки, жена и сестра его; они возвращаются из Италии. Лорд важен, но учтив. – Лади и мисс любезны. С каким нетерпением приближаются они к отечеству, к родственникам и друзьям своим, после шестилетней разлуки! С какою радостию говорят о тех удовольствиях, которые ожидают их в Лондоне! – Ах! Я завидовал им от всего сердца! Они приметили мою чувствительность и для того, может быть, обошлись со мною ласковее, нежели с другими пассажирами. Через два часа лади занемогла морскою болезнию – лорд также – их отвели в каюту. Мисс осталась на палубе, но скоро и она побледнела. Ветер сорвал с нее шляпу, развевал ее русые длинные волосы. Я принес ей стакан холодной воды, но ничто не помогало! Бедная англичанка, смотря на меня умильными и томными глазами, говорила: «Je suis mal, tres mal; ma poitrine se dechire – Dieu! je crois mourir!» – «Мне дурно! Очень дурно; грудь моя раздирается – я умираю!» – Наконец и ее должно было вести в каюту к прочим больным женщинам. Она подала мне свою руку, холодную, слабую и дрожащую; грудь ее видимо подымалась и опускалась; слезы катились градом по бледному лицу – я почти нес ее на руках. Какая мучительная болезнь! Видя везде страдающих, видя многие неприятные явления, которые бывают всегдашним следствием морских припадков, я сам едва было не упал в обморок; оставил свою больную, возвратился на палубу и мало-помалу отдохнул на свежем воздухе.
Подле меня сидят теперь два немца – кажется, ремесленники, которые, думая, что их никто не разумеет, свободно разговаривают между собою. – «Что-то мы увидим в Англии! – сказал один. – Французы нам теперь известны; в них не много пути». – «Думаю, – отвечал другой, – что я Англия нам не очень полюбится. Где лучше нашей любезной Германии! Где лучше берегов Рейна!» – «Где лучше Веиндорфа! – сказал первый с улыбкою. – Там живет Анюта». – «Правда, – отвечал другой со вздохом, – там живет Анюта. Недалеко оттуда живет и Лиза», – примолвил он с улыбкою. – «Ах! Недалеко!» – отвечал первый с таким же вздохом. – «Еще шесть или семь месяцев», – сказал один, взяв товарища своего за руку. – «Еще шесть или семь месяцев, – повторил другой, – и мы в Германии!» – «И мы на берегу Рейна!» – «И мы в Веиндорфе!» – «Там, где живет Анюта!» – «Там, где живет Лиза!» – «Дай бог! Дай бог!» – сказали они в один голос и крепко пожали руку один у другого.
Уже открывается Дувр и высокие башни, в которых ночью зажигают огонь для безопасности плавателей. Нигде не видно зелени; везде песчаные холмы, песчаные равнины. Мы близко к берегу, но еще буря может унести нас далеко в необозримость морскую – еще опасность не миновалась – еще корабль наш может удариться о подводные граниты и погрузиться в шумящей бездне! Тогда… adieu! (Прощайте! (франц.). – Ред.)
Дувр
Берег! Берег! Мы в Дувре, и я в Англии – в той земле, которую в ребячестве своем любил я с таким жаром и которая по характеру жителей и степени народного просвещения есть, конечно, одно из первых государств Европы. – Здесь все другое: другие домы, другие улицы, другие люди, другая пища – одним словом, мне кажется, что я переехал в другую часть света.
Англия есть кирпичное царство; и в городе и в деревнях все домы из кирпичей, покрыты черепицею и некрашеные. Везде видите дым земляных угольев; везде чувствуете их запах, который для меня весьма неприятен; улицы широки и отменно чисты; везде тротуары, или камнем выстланные дорожки для пеших – и на каждом шагу – в таком маленьком городке, как Дувр, – встречается вам красавица в черной шляпке, с кроткою, нежною улыбкою, с посошком в белой руке.
Так, друзья мои! Англию можно назвать землею красоты – и путешественник, который не пленится миловидными англичанками; который, – особливо приехав из Франции, где очень мало красавиц, – может смотреть равнодушно на их прелести, должен иметь каменное сердце. Часа два ходил я здесь по улицам единственно для того, чтобы любоваться дуврскими женщинами, и скажу всякому живописцу: «Если ты не был в Англии, то кисть твоя никогда совершенной красоты не изображала!»- Англичанок нельзя уподобить розам; нет, они почти все бледны – но сия бледность показывает сердечную чувствительность и делается новою приятностию на их лицах. Поэт назовет их лилиями, на которых, от розовых облаков неба, мелькают алые оттенки. Кажется, будто всяким томным взором своим говорят они: «Я умею любить нежно!» – Милые, милые англичанки! – Но вы опасны для слабого сердца, опаснее нимф Калипсиных, и ваш остров есть остров волшебства, очарования. Горе бедному страннику! Равнодушно взглянет он с берега на пылающий корабль свой, и снова устремит огненные глаза на какую-нибудь Эвхарису (Известно, что Телемак, влюбленный в Калипсину нимфу Эвхарису, не тужил о сгоревшем корабле своем.). Ах! Какой Ментор низвергнет его в волны морские!