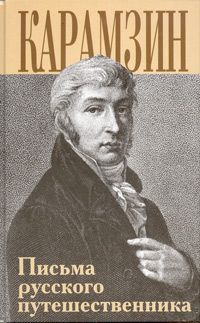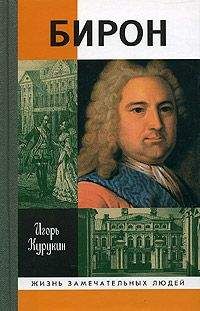Я не знал, где мне приклонить свою голову в обширном Лондоне, но ехал спокойно, весело; смотрел и ничего не думал. Обыкновенное следствие путешествия и переездов из земли в землю! Человек привыкает к неизвестности, страшной для домоседов. «Здесь есть люди: я найду себе место, найду знакомство и приятности», – вот чувство, которое делает его беззаботным гражданином вселенной!
Наконец карета наша остановилась; товарищи мои выпрыгнули и скрылись. Тут вспомнил я, что и мне надлежало идти куда-нибудь с своим чемоданом – куда же? Однажды, всходя в парижской отели своей на лестницу, поднял я карточку, на которой было написано: «Г. Ромели в Лондоне, на улице Пель-Мель, в 208 нумере, имеет комнаты для иностранцев». Карточка сохранилась в моей записной книжке, и друг ваш отправился к г. Ромели. Вспомните анекдот, что один француз, умирая, велел позвать к себе обыкновенного духовника своего, но посланный возвратился с ответом, что духовника его уже лет двадцать нет на свете. Со мною случилось подобное. Господин Ромели скончался за пятнадцать лет до моего приезда в Лондон!.. Надлежало искать другого пристанища: мне отвели уголок в одном французском трактире. «Комната невелика, – сказал хозяин, – и занята молодым эмигрантом, но он добрый человек и согласится разделить ее с вами». Товарища моего не было дома; в горнице не нашел я ничего, кроме постели, гитары, карт и… a black pair of silk breeches (Пары черных шелковых брюк (англ.). – Ред.) (С которыми отправился Йорик во Францию, как известно.). В ту же минуту явился английский парикмахер, толстый флегматик, который изрезал мне щеки тупою бритвою, намазал голову салом и напудрил мукою… Я уже не в Париже, где кисть искусного, веселого Ролета (Имя моего парижского парикмахера.), подобно зефиру, навевала на мою голову белейший ароматный иней! На мои жалобы: «Ты меня режешь, помада твоя пахнет салом, из пудры твоей хорошо только печь сухари», англичанин отвечал с сердцем: «I don't understand you, Sir» – «Я вас не разумею!» И большой человек не есть ли ребенок? Безделица веселит, безделица огорчает его: толстый лондонский парикмахер грубостию своею, как облаком, затмил мою душу. Надевая на себя парижский фрак, я вздохнул о Париже и вышел из дому в задумчивости, которая, однако ж, в минуту рассеялась видом прекраснейшей иллюминации… Едва только закатилось солнце, а все фонари на улицах были уже засвечены; их здесь тысячи, один подле другого, и куда ни взглянешь, везде перспектива огней, которые вдали кажутся вам огненною беспрерывною нитью, протянутою в воздухе. Я ничего подобного не видывал и не дивлюсь ошибке одного немецкого принца, который, въехав в Лондон ночью и видя яркое освещение улиц, подумал, что город иллюминован для его приезда. Английская нация любит свет и дает правительству миллионы, чтобы заменять естественное солнце искусственным. Разительное доказательство народного богатства! Французское министерство давало пенсии на лунный свет; (В лунные ночи Париж не освещался; из остатков суммы, определенной на освещение города, давались пенсионы.) гордый британец смеется, звучит в кармане гинеями и велит Питту зажигать фонари засветло.
Я люблю большие города и многолюдство, в котором человек может быть уединеннее, нежели в самом малом обществе; люблю смотреть на тысячи незнакомых лиц, которые, подобно китайским теням, мелькают передо мною, оставляя в нервах легкие, едва приметные впечатления; люблю теряться душою в разнообразии действующих на меня предметов и вдруг обращаться к самому себе – думать, что я средоточие нравственного мира, предмет всех его движений, или пылинка, которая с мириадами других атомов обращается в вихре предопределенных случаев. Философия моя укрепляется, так сказать, видом людской суетности; напротив того, будучи один с собою, часто ловлю свои мысли на мирских ничтожностях. Свет нравственный, подобно небесным телам, имеет две силы: одною влечет сердце наше к себе, а другою отталкивает его: первую живее чувствую в уединении, другую между людей – но не всякий обязан иметь мои чувства.
Я умствую: извините. Таково действие английского климата. Здесь родились Невтон, Локк и Гоббес!
Надобно смотреть, надобно описывать. – Ошибаюсь или нет, но мне кажется, что первый взгляд на город дает нам лучшее, живейшее об нем понятие, нежели долговременное пребывание, в котором, занимаясь частями, теряем чувство целого. Свежее любопытство ловит главные, отличительные знаки места и людей, то, что, собственно, называется характером и что при долгом, повторительном рассматривании затемняется в душе наблюдателя. Таким образом, если бы я, прожив в Лондоне года два, уехал и захотел себе представить его в картине, то мне надлежало бы оживить в памяти своей сильные впечатления нынешнего дня.
Кто скажет вам: «Шумный Лондон!», тот, будьте уверены, никогда не видал его. Многолюден, правда, но тих удивительным образом, не только в сравнении с Парижем, но даже и с Москвою. Кажется, будто здесь люди или со сна не разгулялись, или чрезмерно устали от деятельности и спешат отдыхать. Если бы от времени до времени стук карет не потрясал нерв вашего слуха, то вы, ходя по здешним улицам, могли бы вообразить, что у вас залегли уши. Я входил в разные кофейные домы: двадцать, тридцать человек сидят в глубоком молчании, читают газеты, пьют красное португальское вино, и хорошо, если в десять минут услышите два слова – какие же? «Your health, gentleman!» – «Ваше здоровье!» Мудрено ли, что англичане славятся глубокомыслием в философии? Они имеют время думать. Мудрено ли, что ораторы их в парламенте, заговорив, не умеют кончить? Им наскучило молчать дома и в публике.
Спокойствие моих ушей давало полную свободу глазам моим заниматься наружностию предметов, особливо лицами. Женщины и в Лондоне очень хороши, одеваются просто и мило; все без пудры, без румян, в шляпках, выдуманных грациями. Они ходят, как летают; за иною два лакея с трудом успевают бежать.
Маленькие ножки, выставляясь из-под кисейной юбки, едва касаются до камней тротуара; на белом корсете развевается ост-индская шаль; и на шаль из-под шляпки падают светлые локоны. Англичанки по большей части белокуры, но самые лучшие из них темноволосые. Так мне показалось, а я, право, смотрел на них с большим вниманием! Взглядывал и на англичан, которых лица можно разделить на три рода: на угрюмые, добродушные и зверские. Клянусь вам, что нигде не случалось мне видеть столько последних, как здесь. Я уверился, что Гогард писал с натуры. Правда, что такие гнусные физиогномии встречаются только в низкой черни лондонского народа; но столь многообразны, живы и разительны, что десяти Лафатеров недостало бы для описания всех дурных качеств, ими изображаемых. Франтов видел я здесь гораздо более, нежели в Париже. Шляпа сахарною головою, густо насаленные волосы и виски до самых плеч, толстый галстук, в котором погребена вся нижняя часть лица, разинутый рот, обе руки в карманах и самая непристойная походка: вот их общие приметы! Не думаю, чтобы из тысячи подобных людей вышел один хороший член парламента. Борк, Фоке, Шеридан, Питт в молодости своей, верно, не бегали по улицам разинями.
Скажите, друзья мои, нашему П*, обожателю англичан, чтоб он тотчас заказал себе дюжину синих фраков: это любимый цвет их. Из пятидесяти человек, которые встретятся вам на лондонской улице, по крайней мере двадцать увидите в синих кафтанах. Таким важным замечанием могу кончить письмо свое: остальные наблюдения поберегу для следующих. Скажу только, что я с великим трудом нашел свою таверну. Лондонские улицы все одна на другую похожи; надобно было спрашивать, а я дурно выговаривал имя своей и не прежде одиннадцати часов возвратился к любезному моему… чемодану.
Лондон, июля… 1790
Я не видал еще никого в Лондоне, не успел взять денег у банкира, но успел слышать в Вестминстерском аббатстве Генделеву ораторию «Мессию», отдав за вход последнюю гинею свою. В оркестре было 900 музыкантов. Пели славная в Европе Мара, синьора Кантело, Стораче, известный певец Паккиеротти, Норрис и проч. Инструментальною музыкою управлял г. Крамер. Вообразите действие 600 инструментов и 300 голосов, наилучшим образом соглашенных, – в огромной зале, при бесчисленном множестве слушателей, наблюдающих глубокое молчание! Какая величественная гармония! Какие трогательные арии! Гремящие хоры! Быстрые перемены чувств! После священного ужаса, вселяемого ариею: «Who shall stand when he appears» (Кто устоит пред лицом его, и проч.), вы в восторге от хора: «Arise, shine, for thy light is come». (Восстань и сияй, ибо явился свет твой.) Печаль, грусть обнимает сердце, когда Мара поет о Христе: «Не was a man of sorrows, and acquainted with grief» (Он испытал горесть, узнал печаль.). Так называемые семи-хоры вопросами и ответами производят удивительное действие. Один: «Who is the king of glory?» Другой: «The Lord, strong and mighty». – «Who is the king of glory?» – «The Lord of Hosts» (Кто царь славы? Господь небесных воинств.). После чего семи-xop повторяется всем хором. Я плакал от восхищения, когда Мара пела арию: «I know that my Redeemer lives» и дуэт с Паккиеротти: «О Death, where is thy sting? О grave, where is thy victory?» (Жив, жив спаситель мой!.. О смерть! Где твое жало? Могила! Где победа твоя?) Я слыхал музыку Перголезиеву, Иомеллиеву, Гайденову, но не бывал ничем столько растроган, как Генделевым «Мессиею». И печально и радостно, и великолепно и чувствительно! -