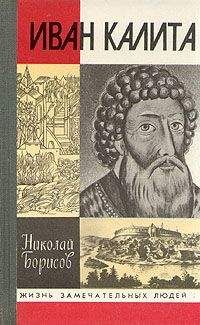Тут все, отражаясь, повторяло друг друга, утверждая гармонию и единство всех сущих форм, и, когда мы пытались выделить, в чем же это единство, взгляд скользил вверх, вверх, чтобы остановиться на чем-то, как на центре подобия, и нигде не мог остановиться, и вот нам уже некуда больше смотреть, как в небо…
Богослужение в этом храме не прекращалось никогда, свечу можно ставить на любой камень.
Побег
Мы поднялись еще выше, и, уже более со страхом, чем с трепетом, заглянул я в то голубое отверстие, откуда ОН начал… Это была черная немая дыра. «Вот почему, — сказал друг, заглянув мне через плечо в ту же дыру, вот почему я так редко бываю тут… Если бы не ты, то и не был бы… Как отсюда вернуться назад, туда же, тем же?..» И тогда мы по плавной и крутой кривой быстро спустились вниз, все более ощущая пустую усталость. Там во дворе стояла «Волга» (ее не было, когда мы поднимались), водитель копался в моторе, а рядом присел на корточки, так, что черная ряса легла подолом на землю, скрыв его ноги, тот красивый старик, которого мы видели с книгой на балконе. Я увидел его совсем вблизи, я мог бы притронуться к нему. У него было действительно великое лицо, лик — нам не показалось. Присев на корточки, он рассматривал автомобильную свечу, держа ее перед собой в щепоти пальцев. Кисть его была так же одухотворена, как и лицо. Он смотрел на свечу точно так же, как смотрел тогда в книгу: так же неподвижно, с тем же божественным, чуждым светскости простым величием, — веки его были чуть опущены, но лоб, чистый, мраморный, был невозмутим и нервен, как веко. Ох, мы были не правы. Не было книги, не было свечи! Ничего уже не было.
То же красное платье мелькнуло внизу у ручья, сизый дымок там вился, и запах шашлыка тонко достиг нас, обозначив, что вовсе не молитва, а голод терзает нас. «Эх, — сказал шофер, — была бы у нас бутылка, мы могли сейчас спуститься и присоединиться к шашлыку…»
Как поспешно, как охотно рванулась машина и унесла нас из Гехарда, словно выплюнула! Никто не обернулся. Когда входишь — все отворяется тебе, но, когда уходишь, видишь только обратную дорогу. Мы выскользнули из-под лапы льва.
А уж тут нас ждали одни радости. Все легче и голоднее становилось нам. Мы останавливались, пили из ручья воду, мы останавливались, ели шашлык и пили водку и, наконец, к закату достигли Гарни. Гарни — это единственный в Союзе языческий храм. Развалины его. Гарни — это прекрасно.
Но тут можно есть, пить, плясать, петь. Это языческий храм. Мы сидели на циклопических обломках, пили чачу, которую достали у смотрителя храма, шутили, если можно так сказать, с польскими туристками, подмигивали, подхохатывали, ржали, улюлюкали, гикали… Выдавали мы себя почему-то за футболистов сборной. Мы смотрели на удивительнейший закат, и ущелье под нами все глубже темнело.
И наконец мы ехали назад, в город Ереван, оставив все позади и не заметив перехода, пьяненькие, шумные, такие счастливые! Уже ночь спустилась, шофер лихо заламывал руль на повороте, бабочки прядали, сверкнув серебром в свете фар, а сзади мои друзья прекрасно пели прекрасные свои песни, и я чуть ли не подпевал им, такой умиленный, на родном армянском языке. Впереди открывались огни Еревана.
Мы расстались, пожав друг другу руки.
Все очень просто: небо треснуло, земля раскололась, твердь покачнулась, хлябь разверзлась, — всего лишь еще один день прожит, до свидания, до завтра.
«Раньше и теперь»
Чем естественней и глубже становилось мое пребывание в Армении, тем расплывчатей и удаленней была конкретная цель моего сюда приезда. Пока я приспосабливался, вживался, пока мне было не по себе, цель эта еще жила, вполне совпадая с общей неловкостью положения. Но как только я начал жить, тут же, словно некую верховную темную силу не устраивало, чтобы я жил, из памяти выплыло, как возмездие, и погрозило пальцем: не живи.
Срок командировки истекал так же неумолимо, как еще в дороге истекают суточные. Час расплаты надвигался, честный и чистый образ главного бухгалтера редакции беспокоил и смущал.
«Раньше и теперь» — таково было мое задание. Взволнованный лирический репортаж о современном градостроительстве.
Только теперь начинал я постигать всю меру того легкомыслия, которое позволяет людям передвигаться с места на место по собственному желанию. Соблазн — это надежда на бесплатность. Платить же приходится не за вход, а за выход. И мне надо было выходить из положения. Вошел-то я в него более или менее с легкостью. Так, затухая, думал я, постепенно подводя себя к уровню задания.
Во-первых, «раньше». Я не знаю, как было раньше. Мне было предложено прочесть очерк М. Кольцова, чтобы знать, как раньше. Но даже очерка этого я все еще не прочел.
Во-вторых, «теперь». Оно требовало, безусловно, восторженного к себе отношения. Это вытекало из задания и было, по заданию, ясно. Восторгов было более чем достаточно, но все они будто не имели отношения к заданию.
Ну прямо как в школе — все, кроме уроков… Я бы покрасил забор Тому Сойеру.
Школярские, предэкзаменационные мысли…
Я ходил по Еревану и рассматривал его современные ансамбли. Они были так хорошо исполнены, словно даже восторг отношения к ним был учтен архитектором и направлен по нужному руслу. Они были выстроены так, чтобы вы не могли не заметить, чтобы вами овладевал восторг в обязательном, рабочем порядке.
И тут невнятная мысль приходит в голову. Что лучше: совсем плохое плохое или плохое несколько получше? Такое, что почти хорошее? Сразу изобличающее себя, постепенно изживаемое временем или годное до сих пор? То есть, представляя себе эпоху, когда был сооружен, к примеру, ансамбль площади Ленина, легко допустить, что это почти невозможный предел органичности, вкуса и естественности для своей эпохи, что для воплощения этого замысла потребовались смелость и талант, почти дерзкие. И современники ощущали ветерок прогресса на своем лице. Но что-то случилось за эти годы — а здания остались стоять, хотя время их ушло. Они стоят в ином времени…
Не так-то легко разграничить «раньше» и «теперь», как может показаться на первый взгляд. Если бы это сводилось лишь к различению зданий, недавно построенных, от зданий, построенных давно, деревьев выросших от деревьев, недавно посаженных, и т. д., то такая формальная задача вряд ли интересна естественный навык, часы. Если же искать границу между прошлым и настоящим, то это просто физически невыполнимо, потому что граница эта сползает ежесекундно, ежемгновенно, и каждый шаг, каждый вздох невозвратим, каждая написанная строка уже написана, а не пишется… По сути, настоящее и есть эта граница с прошлым. Если же провести эту границу по какому-либо важнейшему историческому рубежу (как естественно для нас проводить ее по 1917 году), то ведь и пространство между этим рубежом и сегодняшним днем все растет и заполняется прошлым, и в это пространство уже легко вмещается и человеческая жизнь с ее личным прошлым, как, например, моя… и сравнение становится все более умозрительным и далеким.
Значит, только «сейчас» или, самое большее, «только что» — вот реальный мой материал, о котором я могу успеть сказать в настоящем времени, пока все не умчалось в далекое прошлое. И так ли важна дата творения, если творение живо и дышит до сих пор? Если здание, возведенное тысячу лет назад, и здание, вчера законченное, стоят по соседству сегодня, то они современники. В этом смысле все живое — современно. И то, что они стоят рядом, и есть теперь, а не только то, чего вчера еще не было. Мир населен не одними новорожденными…
Так что, о чем бы я ни писал, только настоящее интересует меня, только живое: и только что родившееся и давно живущее, и возникающее и уходящее в прошлое, но еще не ушедшее.
Только теперь, думал я, только теперь…
И ничего не мог видеть после Гехарда.
Контрольная работа
…И следующее утро наступило, укоротив мою командировку еще на день, а я так ничего и не предпринял, но и жить, радуясь тому, чему радовался еще вчера, тоже уже не мог.
В это утро у меня было назначено свидание с мэром города Еревана, энтузиастом и вдохновителем современного городского строительства — по всем свидетельствам, человеком во многих отношениях замечательным.
Все более совестно становилось мне при воспоминании о всех тех людях, что шли мне навстречу: придумывали тему, чтобы я мог сюда приехать, оформляли командировку, выписывали деньги, помогали советом, интересовались устройством моего быта, предоставляли редакционную машину.
Теперь они все чего-то от меня ждали. Я должен был не подкачать и не подвести.
Я вышагивал по утреннему городу, радостно отмечая в себе, что был не прав, что город мне нравится все больше и больше — просто я закоснел в субъективности и т. д. И действительно, утром город смотрелся. Чистый и нежаркий, с еще длинными тенями, он был тих и скромен, и розоватость ему шла.