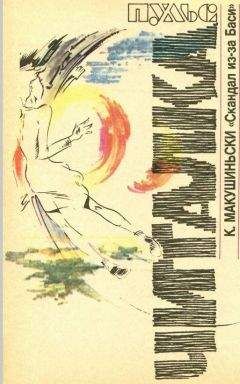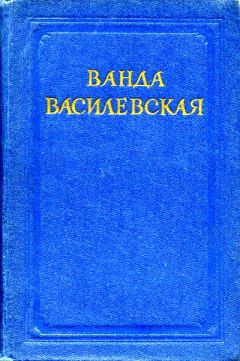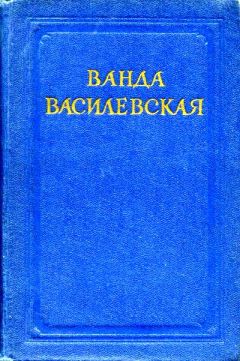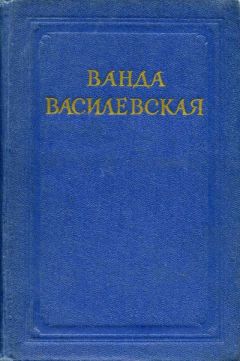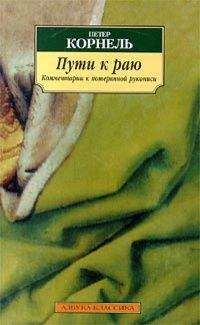— Тихо, тихо! — вновь шепнул профессор.
Бзовски пошевелился. С широко открытыми глазами он осторожно, словно крадучись, стал приближаться к обширному столу, на котором была расстелена карта. Он посмотрел на нее голодным взглядом, потом прикоснулся к ней рукой, мягко и ласково.
— Он улыбается! — удивилась Бася.
— Узнает...—шепнул профессор.
Бзовски тем временем подошел к книжным полкам и дрожащими пальцами стал прикасаться к корешкам огромных томов, стоящих в неподвижной шеренге, как гренадеры. Вдруг он снял с полки один том и словно бы в удивлении рассматривал его с напряженным вниманием. Потом начал перелистывать страницы — быстро, быстро... Потом поставил книгу на место и вздохнул. Обеими руками обхватил голову, будто внезапная боль давила ее изнутри.
— Как он побледнел! — шепнула Бася.
Профессор не ответил, только сильнее стиснул ее руку. Он был сильно взволнован. Что-то взвешивал, что-то обдумывал. Не отрываясь, он смотрел на неподвижно стоящего Бзовского, на его смертельно бледное лицо и руки, сплетенные на голове. Вдруг пришел к какому-то решению, потому что сам побледнел, а губы его задрожали. Он уверенным шагом вошел в кабинет и голосом, в котором звучала смесь радости и испуга, закричал:
— Как дела, пан Адам?
Бзовски дернулся, как человек, в которого попала пуля. Зашатался, ударенный этим голосом, отступил на шаг и оперся о книжные полки. Он дышал так, словно ему пришлось долго бежать. Открытым ртом хватал воздух, будто внес на гору какую-то ужасную тяжесть и теперь отдыхает. Потом он вскрикнул коротким, оборвавшимся криком и посмотрел на профессора как на привидение.
— Адась! — закричал профессор так взволнованно, с такой болью, что казалось, будто это слово было налито кровью.
Он вытянул руки, а тот, секунду поколебавшись, бросился в объятия профессора. Седой человек гладил его по голове, как ребенка, как отец ласкает сына, возвратившегося из безумного, смертельно опасного путешествия. Он целовал эту несчастную, покрытую шрамами голову, прижимающуюся к его груди.
Бзовски рыдал.
— Бася! Возвращаю тебе отца...— проговорил профессор странным голосом.
Снова
начинается
весна
— Один сумасшедший выздоровел,— говорила пани Таньска с горечью,— но зато родился второй.
— Кто это? — весело спрашивал пан Ольшовски — Я?
— Вы тоже кандидат. Но ближе всего к этому Бася. Разве вы не видите, что происходит с девочкой?
— А что происходит? Она радуется!
— Можно радоваться, но ведь не до потери разума. Я, когда в первый раз выходила замуж, должна была прыгать от радости, потому что отбила жениха у одной косоглазой девицы, а у меня на свадьбе лицо было как из мрамора. Бася носится как сумасшедшая и каждому
бросается на шею. Я понимаю, когда она это проделывает со мной, но она проделывает эту операцию с каждым, кого встретит. Шота она тоже зацеловала, но этому я не удивляюсь, потому что это симпатичный парень. Покраснел и удрал, но на обед вернулся, негодник.
— Чего вы, бабушка, хотите от нее? Она спасла отца...
— Вот именно! Это была дурацкая мысль...
— Бабушка, не говорите загадками! — смеялся Ольшовски.
— Пане Ольшовски! — закричала бабка.— Мне восемьдесят лет, и загадками я не говорю. Может быть, и говорила бы, если бы читала ваши книги, но Бог меня от этого уберег. Спасла отца? Я уверяю, что она его погубила. Так долго он был счастлив, так долго не знал, что творится на свете. По крайней мере, раньше он смеялся, а теперь будет плакать. Он не понимал, что ему говорят, и слушал часами, а теперь удирает, как только услышит одно слово! Почему ты смеешься? Что тебя так развеселило?
— Ничего, ничего...
— Ну и не смейся над чужим горем! У меня по крайней мере было какое-то занятие, а что теперь? Что я .буду делать? Я обязательно должна кого-то опекать, потому что не могу вынести, что люди так глупо живут, а этот Бзовски уже ищет квартиру. Они совещаются с Басей, а я не знаю о чем, хоть Марцыся подслушивает под дверями, но она глухая как пень. И пусть бы себе искал, но ведь он заберет Басю!
— Наверное, не заберет...
— Ладно, ладно, пусть забирает. Погубит девочку! Географии будет ее обучать, и он, и тот другой ненормальный, тот ваш профессор. География ей нужна, как батраку часы. Муж ей будет нужен, а не география. Что я должна делать?
— Начните читать мои книги!
Пани Таньска ответила ему мрачным взглядом:
— Этого не дождешься. Ведь у кого-то в семье должны быть все заклепки на месте.
Свое неудовлетворенное желание кого-то опекать она направила в сторону маленького Тадеуша, пухленького ребенка, сына Ольшовских, и из-за этого снова начались скандалы. Бабушка вбила себе в голову, что мальчик очень худенький, и, стоя над ним, как палач над приговоренным, приказывала:
— Мальчик наверняка голодный. Тадю, съешь два яичка!
Тадя бледнел при одной мысли об этом, а пани Ольшовска кричала:
— Но, бабушка, на нем одежда лопается!
— Пусть лопается, а есть ему нужно. Я в его возрасте выпивала по десять сырых яиц.
Она однако, быстро забыла об изголодавшемся скелетике, толстяке Тадеуше, потому что
ее отвлекли два чрезвычайных происшествия: Бзовски переезжал, а Шот женился. Первую катастрофу она не могла предотвратить, а вторую — старалась.
— Ну и глупы же вы! — кричала она во время воскресного обеда.— На какие деньги вы будете жениться? На актерские гроши вы сможете содержать жену? Стены она будет грызть, несчастная женщина. А впрочем, пусть грызет, раз она так глупа, что выходит за вас. Я бы за такого ананаса не вышла, даже если бы мы только вдвоем оставались на всем белом свете. А вы все время только смеетесь, как наследственный идиот. Плохо вам тут было?
— Страшно, страшно хорошо! — сказал растроганный Шот, не обращая внимания на то, что бабка так и сыплет болванами и идиотами.
— И отчего же вы удираете? — воскликнула бабка гневно.
Внезапно она словно лишилась сил и начала говорить печально:
— Что я вам всем сделала, что вы так от меня убегаете? Валицки умер, будто мне назло, моя внучка ушла к этому писаке, Бася уходит, теперь вы... Отчего?
— Все уходят, потому что должны, но все вас любят,— сказал Шот.
— Должны... Должны...—повторяла пани Таньска —Жизнь глупо устроена, если все должны постоянно уходить. Ну ладно. В конце концов и я обижусь и уйду... Но нет. Я сто лет буду жить, и кто мне что скажет?
— Пусть попробует! - закричал Шот богатырским тенором.
Это развеселило пани Таньску, и она добродушно сказала:
— В золоте вы купаться не будете, так что запомни, гамадрил: чтобы каждое воскресенье приходил сюда на обед с женой. Как всегда. Придешь?
Шот не ответил, только поцеловал ее скрюченные руки.
Назавтра было прощание с Бзовским и Басей.
Бзовски, выздоровевший из-за того потрясения, которое вернуло ему память о любимых вещах жил, казалось, тройной жизнью, словно бы хотел наверстать упущенное. Он двигался как в горячке, много говорил, рвался к любой работе. Ему долго не сообщали о страшной трагедии его жены, чтобы новая1 боль не повредила ему, но он сам узнал от Баси обо всем. С ней он съездил на могилу, к дерну на которой прикоснулся губами.
Долгими часами Бася рассказывала ему обо всем. Сначала он не мог связать одно событие с другим и в его сознании путалась их очередность, но постепенно разбушевавшиеся воды успокоились, все окрепло и начало отвердевать. Бзовски написал два трогательных письма — одно Уильямсу, второе — Диморьяку. Труднее всего ему было вспомнить то, что с ним было после катастрофы на горной тропе. События десятилетней давности плясали перед его глазами как клубящийся туман, но даже те крупицы, которые он выкапывал с самого дна памяти, были ужасны. Попав в безлюдные места, он обессилел и потерял сознание. Как очутился в грязной деревеньке хибаров, он не помнил. Помнил толпу краснокожих рослых и сильных, почти обнаженных, хотя по ночам горы натравливали на них холод, как злого пса. Они вылечили его раны, кормили простой пищей, потому что и сами были бедны, и научили разным ремеслам. Он плел шляпы, переносил тяжести, нянчил детей. У него бывали такие отчаянные минуты, когда какие-то неясные воспоминания сновали перед глазами, но он быстро о них забывал, как забыл родной язык и все, чем наполнена человеческая душа.
— Кроме этого, я научился одному удивительному искусству, известному только этому затерянному в горах племени,— говорил он, глядя словно бы вдаль.
— Что это за искусство, папочка? — весело спросила Бася.
— Уменьшение человеческих голов,— сказал он серьезно.
— Уменьшение... голов? — воскликнула Бася.
— Да. Эти индейцы умеют удивительным способом обрабатывать голову умершего человека, пока она не приобретет размеров головы новорожденного. Любой европейский музеи купил бы такую голову за кучу золота.