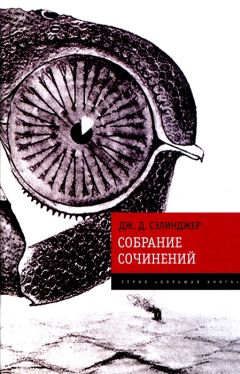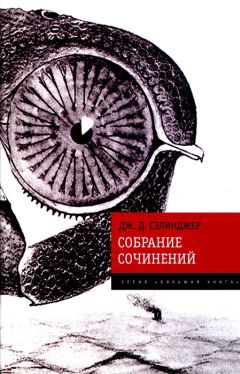Джером Д. Сэлинджер
Знакомая девчонка
В ныне уже далеком 1936 году я окончил первый курс колледжа, завалив все пять экзаменов. Получи я только три двойки, декан бы посоветовал мне с осени продолжать учебу в другом заведении. Но у нас, у круглых двоечников, преимущество: не нужно часами томиться у кабинета начальства, наша судьба решалась без разговоров. Раз, два - и до свиданья, оно к лучшему. Не пропускать же вечером встречи с девушкой в Нью-Йорке.
Похоже, в этом колледже заведено отчет об успеваемости студента доставлять родителям не. по почте, а прямой наводкой из скорострельного орудия, потому что дома, в Нью-Йорке, даже открывший мне швейцар, очевидно, был уже в курсе дела и глядел сурово. Вообще, тот вечер даже вспоминать не хочется. Отец, не повышая голоса, известил меня о том, что мое высшее образование можно считать законченным. Я чуть было не спросил, а не попытать ли счастья в какой-нибудь летней школе. Но вовремя удержался. Причина тому одна. В комнате была мать, она не умолкая твердила одно и то же: мои беды все потому, что я слишком редко обращался к своему научному руководителю, на то он и руководитель, чтобы руководить. После таких заявлений остается лишь пойти с приятелем в бар да напиться. Слово за слово, и вот в нашей "беседе" наступил момент, когда по сценарию мне полагалось выдать очередное призрачное обещание "взяться за ум". Однако я эту банальную сцену опустил.
В тот же вечер отец заявил, что незамедлительно определит меня на работу в своей фирме, но я-то знал, что по крайней мере ближайшая неделя не сулит мне страшных бед. Отцу придется поломать голову, прикидывая и так и эдак, как пристроить меня в своем деле: его партнеры, увидев меня лишь однажды, едва заиками не сделались.
Прошло дней пять, и как-то за обедом отец нежданнонегаданно спросил, а не хочется ли мне съездить в Европу и выучить там парочку языков, что было бы очень кстати для фирмы. Сначала, к примеру, в Вену, потом - в Париж, предложил мой незатейливый папочка.
Я, помнится, ответил, что не возражаю. В то время мне нужно было отделаться от одной девчонки с Семьдесят четвертой улицы. А Вена в моем тогдашнем воображении рисовалась городом каналов и гондол. Картинка что надо!
Прошел месяц, и в июле 1936 года я отплыл в Европу. Стоит, пожалуй, упомянуть, что моя фотография на паспорте имела разительное сходство с оригиналом. В свои восемнадцать лет я был почти метр девяносто ростом, почти шестьдесят килограммов весом (в одежде!) и почти не расставался с сигаретой. А горестей да забот столько, что случись гетевскому Вертеру очутиться рядом на палубе моего лайнера, он показался бы жалким пижоном.
Пароходом я добрался до Неаполя, а оттуда сел на поезд до Вены. Правда, в дороге чуть не вышел вместе с попутчиками в Венеции, уяснив, что каналы и гондолы именно там, но, оставшись в купе один, вытянул наконец-то нога и решил, что комфорт мне дороже гондол.
Конечно же, еще в Нью-Йорке перед отплытием меня снабдили ценнейшими указаниями, как вести себя в Вене: каждодневно не меньше трех часов заниматься немецким языком; не водиться с людьми, которые знакомятся (особенно с молодыми) корысти ради; не сорить деньгами, точно подгулявший моряк; одеваться теплее, чтобы - не дай бог, не схватить воспаление легких; и так далее в том же духе. Все наставления я неукоснительно исполнял с первых же дней венской моей жизни.
Три часа в день я изучал немецкий язык. (Уроки мне давала одна весьма незаурядная молодая особа, с которой я познакомился в холле "Гранд-отеля".)
Где-то у черта на куличках я нашел себе жилье, несколько дешевле, чем номер в "Гранд-отеле". (Правда, ночью троллейбусы в мой район не ходили, благо, ходили такси.)
Я одевался тепло (купил три чистошерстяные тирольские шляпы).
Водился только с хорошими людьми (одному парню в "Бристоль-отеле" даже одолжил триста шиллингов). Короче, домой не о чем написать, разве только что "все в порядке".
Так прошло пять месяцев. Я ходил на танцы. Катался на коньках, на лыжах. Препирался с молодыми англичанами - зарядки ради. Смотрел операции в двух больницах, сам участвовал в сеансе психоанализа молодой мадьярки, курившей сигары. Интерес к занятиям с юной немкой не ослабевал. Говорят, что недостойным везет, и я "поспешал не торопясь".'.. Упоминаю обо всем этом лишь для того, чтобы в моем путеводителе по венской жизни не оставалось белых пятен.
У всякого мужчины, очевидно, случается хотя бы раз такое: он приезжает в город, знакомится с девушкой. И все: сам город лишь тень этой девушки. Неважно, долго ли, коротко ли знакомство, важно то, что все, связанное с городом, связано на самом деле с этой девушкой. И ничего тут не поделаешь.
Этажом ниже, прямо под моей квартирой, точнее, под квартирой хозяев, у которых я снимал комнату, жила с родителями еврейская девочка Леа шестнадцати лет. Красота ее завораживала с первого взгляда, хотя полностью оценить ее можно далеко не сразу. Иссиня-черные волосы обрамляли невероятно изящные ушки - таких я в жизни не видывал. Огромные невинные глаза, казалось, вот-вот прольются от избытка ясности и чистоты. Руки чуть тронуты загаром, покойные пальцы. Она садилась и клада руки на колени - какое еще разумное применение можно придумать этим рукам?! Пожалуй, впервые столкнулся я с творением красоты, которое не вызывало у меня ни малейших оговорок или сомнений.
Почти четыре месяца виделись мы с ней вечерами трижды в неделю, когда по часу, когда дольше. Встречались мы только в стенах нашего дома. Вскорости после знакомства я узнал, что отец определил Леа в жены какому-то молодому поляку. Это отчасти объясняет, почему я так нелепо, упорно ограничивал наше времяпрепровождение четырьмя стенами. Может, боялся, как бы чего не вышло. Может, не хотелось низводить наши отношения до дешевого флирта. Сейчас уже сказать точно не берусь. Когда-то мог, наверное, объяснить, но все давным-давно затерялось в памяти - зачем носить в кармане ключ, которым не отпереть ни один замок.
Мы очень занятно познакомились. У себя в комнате я держал патефон, и хозяйка подарила мне две американские пластинки, бывают такие диковинные подарки из разряда "на тебе. Боже, что нам не гоже", от которых в избытке благодарности покрываешься холодным потом. На одной пластинке Дороти Лямур пела "Луна и мгла", с другой Конни Босуэлл вопрошала "Где ты?". Обе девушки, попеременно солируя у меня в комнате, изрядно надсадили голоса. Мне приходилось прибегать к их помощи всякий раз, когда за дверью слышались хозяйкины шаги.
Однажды вечером я сидел за столом, сочиняя длинное письмо некой девице из Пенсильвании. Из письма явствовало, что ей следует бросить школу и немедленно ехать в Европу, чтобы выйти за меня замуж - в ту пору подобные предложения с моей стороны сыпались частенько. Патефон молчал. И вдруг из открытого окна до меня донеслись слегка исковерканные слова из песни мисс Босуэлл:
Где та?
Куда та ушель?
Разве щастя зо мной не нашель?
Где та?
Меня это ошеломило. Я выскочил из-за стола, подбежал к окну, выглянул на улицу.
Единственный в доме балкон приходился как раз на квартиру этажом ниже. И там в зыбких лучах осеннего заката стояла девчонка. Просто стояла, крепко держалась за перила - стоит отпустить, и весь наш хрупкий мир враз разлетится вдребезги! Я загляделся на ее профиль, позолоченный последними солнечными лучами, и прямо захмелел. Сердце гулко отсчитывало секунды наконец я поздоровался. Она испуганно (как и полагается) вздрогнула, вскинула голову, но, показалось мне, не слишком-то и удивилась моему появлению. Впрочем, не так уж и важно. На ломаном-переломанном немецком я спросил, нельзя ли мне спуститься к ней на балкон. Просьба моя ее, очевидно, смутила. Она ответила по-английски, что вряд ли ее "родителю" это понравится. Я и раньше-то не слишком лестно думал о девичьих отцах, но после ее слов мнение мое испортилось вконец. Впрочем, я даже понимающе, хотя и не без натуги, кивнул. Однако все вышло чудно. Леа сказала, будет лучше, если она сама поднимется ко мне. От радости я лишь обалдело тряхнул головой, закрыл окно и спешно принялся наводить в комнате порядок: раскиданные по полу вещи ногой затолкал под шкаф, под кровать, под стол.
По правде говоря, наш первый вечер мне почти не запомнился, ибо все последующие вечера были точным его повторением, и мне, признаться, один от другого не отличить, во всяком случае, теперь.
Постучит Леа в дверь, и мне в этом стуке чудится песнь, восхитительно трепетная, на высокой-высокой ноте, совсем иных, давних времен. Песнь о чистоте и красоте самой Леа незаметно вырастала в гимн девичьей чистоте и красоте.
Едва живой от счастья и благоговенья, я открывал перед Леа дверь. Мы церемонно здоровались за руку на пороге, потом Леа нерешительно, но грациозно проходила к окну, садилась и ждала, когда я заведу разговор.