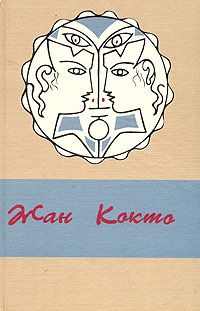Жан Кокто
Ужасные дети
Перевод Н. Шаховская
Часть I
Квартал Монтье зажат между улицами Амстердам и Клиши. С улицы Клиши в него можно попасть через решетчатые ворота, а с улицы Амстердам -- через всегда открытый сводчатый проход большого дома, по отношению к которому Монтье представляет собою самый настоящий внутренний двор -- длинный, с небольшими особнячками, притаившимися у подножия высоких безликих стен. Эти особнячки с зашторенными стеклянными мансардами, должно быть, принадлежат художникам. Так и представляешь себе, что внутри они все увешаны старинным оружием, парчой, полотнами, на которых запечатлены кошки в корзинках, семьи боливийских министров, и мэтр проживает здесь инкогнито, знаменитый, утомленный государственными заказами и наградами, хранимый от всякого беспокойства провинциальной тишиной подворья.
Но дважды в день, в половине одиннадцатого утра и в четыре вечера, тишина взрывается. Ибо открываются двери маленького лицея Кондорсе напротив дома 72-бис по улице Амстердам, и школьники превращают подворье в свой плацдарм. Это их Гревская площадь. Что-то вроде площади в средневековом понимании, что-то вроде двора чудес, любви, игр; рынок шариков и почтовых марок, трибунал, где вершится суд и казнь, место, где хитроумные заговоры предшествуют тем возмутительным выходкам в классе, продуманность которых так удивляет учителей. Ибо пятиклассники ужасны. На следующий год они будут ходить в шестой класс на улице Комартен, презирать улицу Амстердам, разыгрывать какие-то роли и сменят сумку (или ранец) на четыре книги, завернутые в ковровый лоскут и стянутые ремешком.
Но у пятиклассников пробуждающаяся сила еще подчинена темным инстинктам детства. Инстинктам животным, растительным, проявления которых трудно уловить, потому что в памяти они удерживаются не прочнее, чем какая-нибудь минувшая боль, и потому что дети умолкают при виде взрослых. Умолкают, принимают защитные позы иных царств. Эти великие лицедеи умеют мигом ощетиниться, подобно зверю, или вооружиться смиренной кротостью растения и никогда не открывают темных обрядов своей религии. Мы знаем разве только то, что она требует хитростей, даров, скорого суда, застращивания, пыток, человеческих жертвоприношений. Подробности остаются невыясненными, и у посвященных есть свой язык, которого не понять, даже если вдруг незаметно их подслушать. Какие только сделки не оплачиваются марками и агатовыми шариками! Дары оттопыривают карманы вождей и полубогов, крики -- прикрытие тайных собраний, и мне кажется, если бы кто-нибудь из художников, окопавшихся в роскоши, отдернул штору, он не нашел бы в этой молодежи сюжета для жанровой сценки в излюбленном им роде под названием "Трубочисты, играющие в снежки", "Игра в пятнашки" или "Шалуны".
В тот вечер, о котором пойдет речь, шел снег. Он начал падать накануне и легко и естественно воздвигал иную декорацию. Квартал отступал в глубь времен; казалось, снег, изгнанный с благоустроенной земли, ложится и скапливается только там и больше нигде.
Школьники, возвращаясь в классы, уже раскатали, растоптали, измежевали, изжевали его, освежевали жесткую осклизлую землю. По снежной колее бежал грязный ручеек. Окончательно снег становился снегом на ступенях, маркизах и фасадах особнячков. Карнизы, гребни, грузные нагромождения легких частиц не утяжеляли линий, но распространяли вокруг какое-то летучее волнение, предчувствие, и из-за этого снега, светившегося собственным светом, мягким, как у фосфоресцирующих часов, душа роскоши пробивалась сквозь камень, становилась зримой, превращалась в бархат, делая подворье маленьким и уютным, меблируя его, зачаровывая, преображая в призрачный салон.
Внизу было куда менее уютно. Газовые рожки скверно освещали что-то вроде опустелого поля битвы. Заживо ободранная земля выставляла напоказ неровные булыжники в прорехах ледяной глазури; валы грязного снега у водостоков вполне годились для засады, зловредный ветерок то и дело прибивал язычки газа, и темные закоулки уже врачевали своих мертвецов.
Отсюда вид менялся. Особнячки больше не были ложами некоего странного театра, а становились просто-напросто жилищами, намеренно неосвещенными, забаррикадированными от вражеского набега.
Ибо снег лишал квартал его атмосферы вольной площади, открытой жонглерам, шарлатанам, палачам и торговцам. Снег закреплял за ним особый статус, безоговорочно определял ему быть полем боя.
С четырех десяти битва так разыгралась, что стало небезопасно высовываться из подворотни. В этой подворотне собирались резервы, пополняясь новыми бойцами, подходившими поодиночке и по двое.
Даржелоса видал?
Да...нет, не знаю.
Ответ был дан школьником, который вдвоем с другим поддерживал одного из первых раненых, уводя его под арку подворотни. Раненый с обмотанной платком коленкой прыгал на одной ноге, цепляясь за плечи спутников.
У задавшего вопрос было бледное лицо и печальные глаза. Такие глаза бывают у калек; он хромал, а пелерина, ниспадавшая до середины бедра, скрывала, казалось, не то горб, не то искривление -- какое-то необычное уродство. Внезапно он откинул назад полы пелерины, подошел к углу, где были свалены в кучу школьные ранцы, и стало видно, что его хромота и кривобокость -- маскарад, просто он так носит свой тяжелый кожаный ранец. Он бросил ранец и перестал быть калекой, однако глаза остались прежними. Он направился к месту боя.
Справа, на тротуаре под сводом, допрашивали пленного. Газовый рожок, мигая, освещал сиену. Четверо держали пленника (младшеклассника), усадив его спиной к стене. Один, постарше, присев у него между ног, дергал его за уши и корчил ужасающие рожи. Безмолвие этого чудовищного лица, все время меняющего форму, приводило жертву в ужас. Пленник плакал и старался зажмуриться или отвернуться. При каждой такой попытке стращатель зачерпывал горсть серого снега и надраивал ему уши.
Бледный школьник обогнул эту группу и двинулся сквозь перестрелку.
Он искал Даржелоса. Он любил его. Эта любовь снедала его тем сильнее, что опережала осознание любви. То была смутная, неотступная боль, от которой нет никакого лекарства, чистое желание, бесполое и бесцельное.
Даржелос был петухом школьного курятника. Он признавал соперников или соратников. А бледный мальчик всякий раз совершенно терялся, стоило ему увидеть перед собой спутанные кудри, разбитые коленки и куртку с карманами, полными тайн.
Бой придавал ему храбрости. Он побежит, найдет Даржелоса, будет биться рядом, защищать его, покажет ему, на что способен.
Снежинки порхали, осыпали пелерины, звездами мерцали на стенах. То там, то здесь в просветах тьмы взгляд выхватывал кусок лица, красного, с открытым ртом, руку, указывающую на некую цель.
Рука указывает на бледного школьника, который оступился, собираясь кого-то окликнуть -- среди стоящих на крыльце он узнал одного из вассалов своего кумира. Этот-то вассал и выносит ему приговор. Он открывает рот:"Дар-же..."-- и тут же снежок влепляется ему в губы, во рту снег, зубы немеют. Он успевает заметить только чей-то смех и рядом -- Даржелоса, окруженного своим штабом, растрепанного, с пылающим лицом, заносящего руку гигантским взмахом.
Удар приходится ему прямо в грудь. Темный удар. Мраморным кулаком. Кулаком статуи. Голова становится пустой. Ему видится Даржелос на каких-то подмостках, с глупым видом уронивший руку, залитый неестественным светом.
Он лежал на земле. Кровь, хлынувшая изо рта, окрашивала подбородок и шею, впитывалась в снег. Послышались свистки. В одну минуту подворье опустело. Только немногие любопытные теснились вокруг тела и, не оказывая никакой помощи, жадно глядели на окровавленный рот. Одни боязливо отходили, щелкнув пальцами, выпячивали губу, поднимали брови, покачивали головой; другие с разбегу подкатывались к своим ранцам. Группа Даржелоса оставалась неподвижной на ступенях крыльца. Наконец появились надзиратель и швейцар, вызванные школьником, которого пострадавший, отправляясь в бой, назвал Жераром. Он показывал им дорогу. Двое мужчин подняли раненого; надзиратель окликнул тень:
Это вы, Даржелос?
Да, мсье.
Идите за мной.
И маленький отряд двинулся в путь.
Привилегии красоты неизмеримы. Она действует даже на тех, кто ее не признает.
Учителя любили Даржелоса. Надзиратель был крайне удручен этим необъяснимым происшествием.
Мальчика отнесли в швейцарскую, где жена швейцара, славная женщина, умыла его и попыталась привести в чувство.
Даржелос стоял в дверях. За дверью теснились любопытные головы. Жерар плакал и держал друга за руку.
Рассказывайте, Даржелос, -- сказал надзиратель.
Да нечего рассказывать, мсье. Кидались снежками. Я в него кинул. Наверно, снежок оказался крепкий. Ему попало в грудь, он охнул и упал. Я сперва думал, ему разбило нос другим снежком, оттого и кровь.