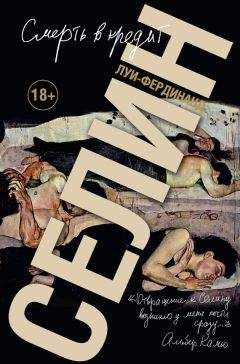Наша работница штопала при свете керосиновой лампы. Она задыхалась от дыма и портила себе глаза. Моя мать приставала к ней, чтобы та провела газ: «Это действительно необходимо».
Мадам Эронд портила себе сетчатку над крошечными прошивками, паутинками. Моя мать говорила ей это не столько из корысти, сколько по дружбе. Я всегда попадал в хижину мадам Эронд только ночью.
«Нам проведут газ в сентябре!» – говорила она всякий раз. Это была ложь, просто чтобы не приставали… Моя мать, несмотря на ее недостатки, очень ее ценила.
Мать до ужаса боялась работниц, нечистых на руку. Мадам Эронд была порядочной, как никто. Никогда она не обсчитала нас ни на сантим. Она влачила жалкое существование, а через ее руки проходили настоящие сокровища! Венецианские кружева с риз, увидеть которые теперь можно только в музее! Когда моя мать говорила об этом в минуту откровенности, она очень воодушевлялась. У нее выступали слезы. «Эта женщина была настоящей волшебницей! – признавалась она. – К сожалению, она не умела держать слово! Никогда ничего не сделала вовремя!..» Эта волшебница умерла, не дождавшись газового освещения, от усталости, гриппа, а также от огорчений, причиненных ей ее слишком ветреным мужем… Она умерла в родах… Я хорошо помню ее похороны. Это было в Малом Иври. Нас было только трое, я и мои родители, муж даже не побеспокоился! Это был красивый мужчина, он пропивал все, до единого су. Он годами торчал в баре на углу улицы Гайон. По меньшей мере, еще лет десять его видели там. А потом он исчез.
Когда мы выходили от работницы, наши гонки еще не заканчивались. У вокзала Аустерлиц мы снова переходили на галоп, а потом ехали омнибусом до Бастилии. Рядом с Зимним цирком была мастерская Вюрцемов, краснодеревщиков, это было семейство эльзасцев. Именно они гримировали под «старинный стиль» всю нашу мебель, консоли, столики. Двадцать лет они делали это в первую очередь для Бабушки, а потом уже для остальных. Инкрустации никогда не держатся, это всегда создает проблемы. Вюрцем был артистом в своем деле, ему не было равных. Они даже спали в стружках – его жена, тетка, шурин, два кузена и четверо детей. У него тоже никогда ничего не было готово. Его страстью была рыбалка. Часто он неделями пропадал на канале Сен-Мартэн, вместо того чтобы выполнять заказы. Моя мать от злости багровела. Он отвечал вызывающе. Потом извинялся. Семья разражалась слезами, плакали девять человек, а нас было только двое. Они жили не по средствам. Им пришлось даже выехать и устроиться в трущобах на улице Колэнкур, потому что они не платили за квартиру.
Их халупа находилась внизу, в овраге, туда мы добирались по доскам. Уже издали были слышны вопли, и мы направлялись на свет фонаря. Когда я бывал у них, мне всегда хотелось сбросить на пол горшок с клеем, который постоянно дребезжал на плитке. Однажды я решился. Когда мой отец узнал об этом, он сразу предупредил маму, что когда-нибудь я его задушу, мои задатки позволяют это предположить. Так он думал.
У Вюрцемов было приятно, потому что они были не злопамятны. После самых бурных скандалов, как только им давали немного денег, они принимались напевать. Они ни в чем не видели трагедии, легкомысленные рабочие! Не такие щепетильные, как мы! Моя мать всегда ссылалась на их пример, чтобы напугать меня. Я же находил их очень симпатичными. Я засыпал в их стружках. Меня нужно было встряхнуть, чтобы я мог бежать до бульвара и вскочить в омнибус, идущий до Винного рынка. Он казался мне великолепным, потому что внутри большой стеклянный глаз отбрасывал свет на лица сидящих. Это было восхитительно.
Полицейские скачут по улице Мартир, все останавливаются, чтобы пропустить их. Мы все же добираемся до лавки, но с огромным опозданием.
Бабушка уползает в свой угол, мой отец Огюст натягивает на уши фуражку. Он прохаживается, как лев на корабельном мостике. Моя мать падает на табуретку. Она виновата, и говорить нечего. Все, что мы сделали по дороге, никому не нравится – ни Бабушке, ни папе. Наконец мы закрываем магазин, вежливо говорим друг другу «до свидания». Мы втроем отправляемся спать. Еще надо дотащиться до нашего дома. Это по ту сторону Толкучки.
У моего отца был тяжелый характер. Он носил морскую фуражку. Он всегда мечтал стать капитаном дальнего плавания. Из-за этой мечты он и озлобился.
Окна нашей квартиры на улице Бабилон выходили на «Миссии». Кюре часто пели, даже ночью они вставали, чтобы снова пропеть свои гимны. Нам было их не видно из-за стены, которая почти целиком загораживала наше окно. От этого было темновато.
В «Коксинель-Инсенди» мой отец зарабатывал немного.
Когда мы шли через сад Тюильри, меня часто приходилось нести. В то время у всех полицейских были толстые животы. Они неподвижно стояли под фонарями.
Сена завораживает ребенка, отсветы на воде дрожат под ветром, внизу огромная бездна, которая движется и урчит. Мы поворачиваем на улицу Вано и наконец приходим. Когда надо было зажечь лампу, опять начиналась комедия. Моя мать не умела этого делать. Мой отец Огюст копался, чертыхался, изрыгал проклятия, ломал каждый раз фитиль и колпачок.
Мой отец был полным блондином, приходившим в ярость из-за пустяков, с совершенно круглым, как у младенца, носом над огромными усами. Когда на него находила ярость, он свирепо вращал глазами. Он думал только о неприятностях. У него их были сотни. В страховом бюро он зарабатывал сто десять франков в месяц.
В самом деле, вместо того чтобы пойти во флот, он попал на семь лет в артиллерию. Он хотел быть сильным, благополучным и уважаемым. В конторе «Коксинель» с ним обращались пренебрежительно. Он страдал от самолюбия и однообразия. У него не было ничего, кроме диплома бакалавра, усов и щепетильности. С моим рождением они еще больше погрязли в нищете.
Мы с утра ничего не ели. Мать гремела кастрюлями. Она была в нижней юбке, чтобы при стряпне не запачкаться. Она ныла, что Огюст не ценит ее добрых намерений, не понимает трудностей торговли… Он раздумывал над своими неприятностями, облокотившись на угол стола. Время от времени он демонстрировал недовольство… Она всегда старалась его успокоить. Но как только она снимала с крюка подвесную лампу, красивый желтый шар, он моментально приходил в ярость. «Клеманс! Слушай! Боже мой! Ты устроишь нам пожар! Я тебе сколько раз говорил брать двумя руками!» Он испускал ужасные крики и не находил слов от возмущения. Когда он впадал в транс, то становился кирпичного цвета, весь раздувался, глаза вращались, как у дракона. На него было страшно смотреть. Мы с матерью боялись его. А потом он разбивал тарелку, и все отправлялись спать…
«Повернись к стене, маленький мерзавец! Не оборачивайся!» У меня не было желания… Я и так все знал… Мне было стыдно… Я видел мамины ноги, одна худая, другая толстая… Она все ковыляла из одной комнаты в другую… Он уговаривал ее… Она возражала, что надо помыть посуду… Чтобы разрядить обстановку, она пыталась затянуть песенку[19]…
А солнце через дыры
Спускалось с крыши к нам…
Огюст, мой отец, читал «Родину»[20]. Он садился у моей кровати-клетки. Она подходила и целовала его. Он смягчался… Вставал и смотрел в окно. Казалось, он ищет что-то в глубине двора. Он громко выпускал газы. Это была разрядка.
Она тоже пускала газы, тихонько, из солидарности, а потом игриво ковыляла на кухню.
Потом они закрывали дверь… дверь своей комнаты… Я спал в столовой. Гимны миссионеров раздавались за стеной… А по улице Бабилон шагом шла лошадь… Бум! Бум! она тащила фиакр…
Мой отец, чтобы прокормить меня, брал дополнительную работу. Его начальник Лепрент всячески унижал его. Я знал этого Лепрента, он был рыжий, уже поблекший, с длинной золотистой бородой. У моего отца был стиль, ему от природы была свойственна элегантность. Это раздражало Лепрента. Он мстил в течение тридцати лет. Он заставлял отца заново переписывать почти все письма.
Когда я был совсем маленьким, меня отдали кормилице в Пюто, и мои родители по воскресеньям приходили туда навещать меня. Там был чистый воздух. Они все рассчитывали заранее. Никогда ни су долга. Даже когда были крупные неудачи. В Курбвуа моя мать из-за множества забот и от того, что во всем себе отказывала, начала кашлять. Кашель не прекращался. Ее спас сироп из улиток и метод Распая.
Месье Лепрент боялся, что мой отец с его манерами возомнит о себе невесть что.
В Пюто из сада моей кормилицы был виден Париж. Когда отец поднимался туда, чтобы со мной повидаться, ветер взъерошивал ему усы. Это было моим первым воспоминанием.
После банкротства магазина шляп в Курбвуа моим родителям пришлось работать вдвое больше, выбиваться из сил. Она – продавщицей у Бабушки, он, сколько мог, сверхурочно в «Коксинель». Но только чем больше демонстрировал он свой прекрасный стиль, тем более отвратительным находил его Лепрент. Чтобы не озлобиться окончательно, он погрузился в акварели. Он занимался этим вечерами после ужина. Меня привезли в Париж. Я видел, как он рисовал поздно вечером, в основном корабли, корабли в океане, трехмачтовые, при сильном бризе, красками и карандашом. Это было его заветное… Позже пошли воспоминания об артиллерии; выдвижения на боевую позицию и священники… По просьбе клиентов… Из-за их роскошного одеяния… И наконец, танцовщицы с объемистыми ляжками… В обеденный перерыв моя мать предлагала их на выбор продавцам на галереях… Она делала все, чтобы я жил, но рождаться-то мне не следовало.