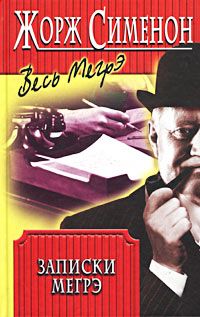У него как раз начинали выпадать молочные зубы, и он все время машинально трогал шатавшийся зуб кончиком языка. Больно не было. Наоборот, он испытывал наслаждение, которое струилось и волнами разливалось по телу, даже подумал: не грех ли это, не будет ли он потом этого стыдиться? Ни разу с тех пор не пришлось ему ощутить такого слияния своей жизни с жизнью вселенной; сердце его билось в одном ритме с землей, с обступившей его травою, шелестящими над головой листьями. Сердце его стало сердцем мира, и ничто не ускользало теперь от его внимания — ни скачущие кузнечики, ни прохлада земли, проникающая сквозь одежду, ни обжигающие лицо солнечные лучи; звуки, сливавшиеся обычно в невнятный шум, слышались каждый сам по себе с непостижимой ясностью: кудахтанье кур на птичьем дворе, гудение трактора на холме, голоса па веранде и — звучнее всех — отцовский. Потягивая маленькими глотками виски, отец отдавал распоряжения негру-управляющему.
Отца ему не было видно, и все-таки Дейв уверен, что навсегда запомнил его именно таким, как в тот день: в лиловом сумраке веранды отец пьет виски и после каждого глотка утирает указательным пальцем золотисто-рыжие усы.
До Дейва долетали лишь обрывки слов, но он не старался уловить их смысл, да слова и не были важны — лишь бы под аккомпанемент земных шумов и шорохов, звучал спокойный и уверенный отцовский голос.
Иногда негр поддакивал:
— Да, сэр.
Такого голоса Дейв тоже никогда больше не слышал: тяжелый, бархатный, как мякоть спелого плода, он шел прямо из глубины груди.
— Да, сэр.
Негр по-южному растягивал слово «сэр», и «р» на конце таяло, превращаясь в какое-то заклинание. Отец родился в этом доме. Земля там была темно-красная, деревья — самые зеленые на свете, летнее солнце цветом и густотой напоминало мед.
Не в тот ли день Дейв поклялся стать похожим на отца? Мать возила мальчика на грузовичке в соседний город в школу, и когда кто-нибудь говорил, что он похож на маму, он несколько дней чувствовал себя несчастным и рассматривал свое лицо в зеркале.
Пыль в городке тоже была красная, а деревянные дома выкрашены в тот же мутно-желтый цвет, что дом Мьюзека. Не жил ли Мьюзек в Виргинии? Дейв знал, что Эвертон выходит сейчас из полуденного оцепенения. Знал, где находится, помнил, что случилось, И все же сумел, не сбившись, соединить прошлое и настоящее, слить их воедино — в сущности, они, наверно, и составляют единое целое.
Внизу женский голос произнес:
— Думаешь, он дома?
Ответил ей мужчина, и Дейв узнал его голос. Это почтовый служащий, тот, что четвертого июля несет знамя во главе процессии. Он сказал, увлекая, вероятно, жену за собой:
— Его, по-моему, недавно привезли. Пойдем.
Как ни старались они говорить тихо, Дейв слышал каждое слово.
— Бедняга!
И они отправились на бейсбол. Следом шли другие. Все чаще и чаще шаркали подошвы по пыльным плитам тротуара. Люди проходили, не останавливаясь, но наверняка задирали головы и глазели на его окна.
Значит, все уже знают. Не иначе как услыхали по радио. Рано утром на ультракоротких волнах оповестили посты полиции, а в полдень радиовещательные станции в сводке последних известий сообщили новость слушателям.
Дейв знал, что рядом на ночном столике стоит маленький приемник, подарок Бену к двенадцатилетию. Тогда сын каждый вечер завороженно слушал передачи про ковбоев.
Интересно, может быть, Бен сейчас именно в Виргинии, где никогда не бывал, хотя столько слышал о ней от отца?
— А земля там по-настоящему красная? — допытывался Бен еще несколько лет назад.
— Ну, не такая, как кровь, но красная, другого слова не подберешь.
Удалось ли им по дороге перекусить в ресторане для водителей или хотя бы купить сандвичей? Кто-то, вероятно, мальчишка, на ходу раза три легонько постучал по витрине мастерской. Потом, словно оркестр в театре, на стадионе грянули крики, раздались свистки; обычное воскресное возбуждение — болельщики вскакивают со скамей, размахивают руками.
Как-то — было это после того солнечного полдня — в школу за Дейвом приехала не мама, а поденщик-негр; дома родителей не оказалось, и заплаканные служанки смотрели на Дейва с жалостью.
Дейв больше никогда не видел отца. Он умер около часу дня в Калпепере в вестибюле банка, где надеялся получить новую ссуду. Матери сообщили по телефону, а тело перевезли прямо в похоронное бюро.
Отцу было сорок. С тех пор Дейв уверился, что раз он так похож на отца, значит, тоже умрет в сорок. Эта мысль настолько укоренилась в нем, что и сейчас, в сорок три, он порой удивляется, что еще жив.
Интересно, считает ли Бен, что похож на отца? И что его жизнь должна повторить отцовскую? Дейв не отваживался об этом спрашивать. Не смея задать вопрос в лоб, украдкой наблюдал за сыном, строил догадки.
А испытал ли его собственный отец такой же интерес к нему, Дейву, такой же страх за него? Быть может, так всегда бывает у отцов с сыновьями? Часто Дейв делал что-нибудь лишь потому, что так поступил бы отец, а в семнадцать лет, чтобы еще больше походить на него, отпустил усы и ходил так чуть не год.
Возможно, он вносил столько страсти в память об отце лишь потому, что через два года мать снова вышла замуж? Уверенности в этом у Дейва нет. Он часто размышлял об этом в те минуты, когда его одолевала тревога за Бена.
Всего через две недели после похорон ферму продали, и они переехали в Ньюарк, штат Нью-Джерси. Дейву ненавистно само воспоминание об этом городе. Он никогда не мог понять, почему именно на него пал выбор матери.
— Мы были разорены, — объясняла она ему потом, но звучало это не слишком убедительно. — Мне пришлось зарабатывать на жизнь. Не могла же я наняться на службу там, где все знают мою семью.
Она была урожденная Трусделл, один из ее предков играл видную роль в Конфедерации. Но и семейство Гэллоуэй, давшее стране губернатора и историка, было не менее известно.
В Ньюарке они жили без прислуги на четвертом этаже дома из темного кирпича; напротив их окна шла железная пожарная лестница, кончавшаяся на высоте второго этажа.
Мать служила в какой-то фирме. Вечерами она часто уходила, и тогда за Дейвом присматривала приходящая няня, совсем еще молодая девушка.
— Если будешь хорошо себя вести, мы скоро опять переедем в деревню и заживем в большом доме.
— В Виргинии?
— Нет. Недалеко от Ньюарка.
Мать имела в виду Уайт-Плейн; они действительно туда переехали, когда она вышла замуж за Масселмена. Может быть, покрутив ручки радиоприемника, он услышал бы о Бене? Раза два он подумал об этом, но побоялся стряхнуть с себя оцепенение и снова соприкоснуться с жестокой реальностью. Он знал: стоит шевельнуться, и придется встать, пойти открыть окно: в квартире духота. Тогда и поесть надо будет. В груди заныло.
Он встанет, но потом. Пока он лежит, не двигаясь, как тогда, в Виргинии, ему кажется, что так он ближе к Бену. А может, сыну не хотелось быть на него похожим? Однажды Бен играл с ребятами на улице перед мастерской, и Дейв услышал, как сын механика, работавшего в гараже, заявил:
— Мой папа сильней твоего. Он твоему как даст — тот сразу свалится.
Это была правда: механик — силач, а Дейв даже спортом не занимается. Он так и застыл, ожидая, что ответит сын, но тот промолчал.
Ему тогда стало горько. Глупости, конечно. Но все равно в сердце кольнуло, и сейчас еще, семь лет спустя, он об этом помнит.
Но больнее всего бывало, когда сын молча разглядывал его, думая, что отец не видит. В эти минуты лицо у мальчика становилось серьезным, задумчивым. Казалось, он где-то витает. Быть может, он творил для себя образ отца, подобно тому, как Дейв сотворил образ своего?
Ему хотелось узнать, каков он, этот образ, спросить: «Сынок, тебе не слишком стыдно за меня?»
Сколько раз этот вопрос вертелся у него на языке, и тогда он шел в обход:
— У тебя все в порядке?
Его самого мать никогда об этом не спрашивала. Но спроси она — неужели он посмел бы ответить «нет!»?
А ведь у него все было далеко не в порядке. Дом в Уайт-Плейне сделался ему ненавистен уже из-за одного вида Масселмена: тот был важной персоной в страховой компании и целыми днями только и делал, что доказывал это самому себе. Из-за Масселмена и матери Дейв сразу после школы пошел учиться на часовщика, чтобы поскорей начать зарабатывать и уйти от них...
А вчера вечером ушел Бен. Стенной шкаф в его комнате, большой, как чулан, набит его игрушками: там заводные машины, трактора, ферма с домашними животными, ковбойские пояса и шляпы, шпаги и пистолеты. Одних пистолетов разных систем штук двадцать, все сломанные.
Бен ничего не выкидывал. Старые игрушки складывал в шкаф, и не так давно отец застал его, когда он старательно подбирал какой-то мотивчик на десятицентовой флейте, которую получил в подарок не то в девять, не то в десять лет.
На стадионе через репродуктор комментируют ход игры, а болельщики наверняка судачат о Дейве. Интересно, слушал ли Мьюзек радио? А может, к нему пришли и сообщили новость? Так или иначе, сейчас он сидит у себя на веранде, попыхивая свистящей чиненой трубкой.