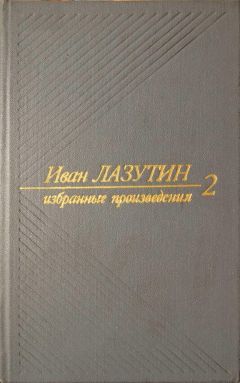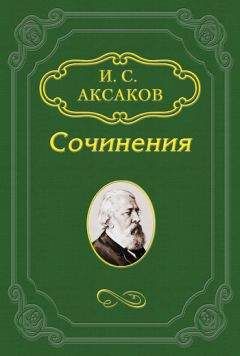В одном из последних писем Кузнецов чуть ли не со слезами умолял свою невесту — ее звали Раисой — подождать его хоть несколько месяцев, писал, что ему обещают отпуск, что его должны перевести поближе к дому… Как только он не уговаривал ее, каких только ласковых и хороших слов не писал: и лебедушка, и голубушка, и милая, и родная… И все как об стенку горох. Читали мы ее письма: тупые, грубые, безграмотные. Что ни строка — то гнусь. И откуда у нее в девятнадцать лет такой расчет взялся? Письма ее мы читали по кругу, всей батареей. Если бы это раньше было известью, то, может быть, помогли бы парню разобраться в жизни. А когда эту шараду разгадали — было уже поздно. И вот ведь что досадно и непонятно: ни следователю, ни судьям Кузнецов ничего не сказал о своей невесте. Для него она была святыней. Он даже адвокату, который мог бы на этом построить защиту, и то ничего не сказал о своей любви.
Последнее письмо Кузнецов получил от матери, когда уже лежал на экспертизе во Владивостокском госпитале. Мать писала, что Раиса вышла замуж… — Зажмурившись, Дронов согнутым указательным пальцем тер лоб. — Да, да, вспомнил, вспомнил… Его звали Фетюньковым Шуркой.
Сергей положил на газету ломоть хлеба и картофелину, к которым он даже не притронулся.
— Почему же он отказался от последнего слова на суде? Почему не стал ходатайствовать о помиловании? — Глаза Сергея были широко раскрыты.
— А зачем? Человек был болен. Болен нехорошей, недоброй любовью к нехорошей, пустой и глупой девке.
— Тогда почему же писатели и поэты шумят, что любовь делает человека благородным, что она толкает его на подвиги?
— И на предательство! — спокойно вставил Дронов.
Сергей, не обратив внимания на реплику Дронова, горячо продолжал:
— Зачем тогда моралисты всех времен доказывают, что «любовь есть источник великих свершений, что она рождает возвышенное, красивое…»?
— Ты говоришь о красивой, о благородной и возвышенной любви. А здесь, я повторяю еще раз, любовь была слепа, безответна, а потому губительна. От такой любви нужно бежать. Ее нужно вырывать из сердца, как чертополох! Сжигать на костре и пепел пускать по ветру!..
— А что нужно для того, чтобы вырвать этот чертополох? — тихо и как-то таинственно спросил Сергей, жадно глядя в глаза Дронову.
— Нужно быть сильным! Нужно быть мужчиной!
— Что значит быть сильным? Это общая фраза.
Дронов поднял на племянника колкий взгляд:
— Это означает: вначале — Родина, долг, а потом все остальное: любовь, семья, дружба… Вспомни Тараса Бульбу. Разве не любил он своего сына, красавца Андрия? А ведь убил собственной рукой, когда тот изменил Родине.
Сергей подавленно молчал.
Время шло к рассвету. Костер догорал, а в запасе уже не оставалось хвороста.
Дронов снова закурил. Некоторое время сидел молча. Прислушиваясь к грустным, задавленным всхлипам волн, которые без устали лизали торфяной берег, он тихо-тихо затянул свою любимую морскую песню:
Они стоят на корабле у борта,
Он перед ней с улыбкой и мольбой,
На ней красивый шелк, на нем бушлат потертый,
Он замер перед ней с протянутой рукой…
Прислушиваясь к песне, Сергей старался вникнуть в ее смысл. Дронов пел дальше, а он видел море, корабль… На палубе перед красавицей, одетой в длинное голубое платье, на коленях стоит матрос в грубой одежде. На лице его написаны и любовь, и страдание, и мольба… А тихий, приглушенный голос Дронова выводил с душой, как будто песня плыла из самых тайных глубин его большого сердца:
Он молвил ей: «Сюда взгляните, леди!
Там в облаках гуляет альбатрос.
Моя любовь вас приведет к победе,
Хотя вы знатная, а я простой матрос…»
Где-то, почти над головой прокричала сова. И откуда-то из далекого далека донесся зов паровоза: протяжный, жалобный зов. Он чем-то напомнил Дронову ржание молоденького жеребенка, отставшего от матери и подающего голос. Но вскоре и эти звуки, не расколов до конца вязкой тишины ночи, бесследно умерли, канув в бесконечность. Лишь неугомонные волны бились и бились о торфяной берег своей мягкой грудью. То ли о чем-то жалея, то ли кого-то оплакивая или кого-то убаюкивая, они, как и тысячу лет назад, всхлипывали, точно несправедливо наказанные дети.
А грустная, тягучая песня Дронова сплеталась с полусонным шепотом камыша:
В ответ на зов влюбленного матроса
С презреньем опустила леди взор.
Взметнулась в нем душа, как крылья альбатроса,
И бросил леди он в бушующий простор…
Запрокинув голову и прищурив глаза, Дронов видел себя в военном строю. Ему чудилось: оглушая бухту, споря с грохотом морского прибоя, над маленьким островком гремел штормовой припев «Альбатроса»:
А море буйное шумело и стонало,
А волны бешено рвались за валом вал,
Как будто море свою жертву ожидало,
Стальной гигант качался и дрожал…
…Все утро и день Сергей был точно наэлектризован. Он походил на морфиниста, который после глубокой душевной депрессии получил такую дозу морфия, что мир ему представлялся волшебной музыкой, розовым сиянием…
Обвешанные дичью охотники возвратились домой. А вечером, когда огненно-рыжий круг солнца наполовину утонул в потемневшем сосновом лесу, Дронов случайно увидел, как Сергей торопливо сжигал в топке плиты тетрадь в клеенчатом переплете. «Значит, дошло, — подумал Дронов и вышел из избы. — Кажется, заряд попал в цель».
Это было в первые послевоенные годы, когда хлеб и пшено давали по карточкам, а бутылка вина на Преображенском рынке стоила так дорого, что нам, студентам, даже и в большие праздники не приходилось помышлять о такой роскоши.
Николай Снегирев таял на глазах. Отчего — никто не догадывался. Проучились мы с ним четыре с лишним года на одном факультете, в одной группе, жили в одной комнате общежития, пополам делили случайные приработки в Московском речном порту и на массовых съемках на «Мосфильме», по очереди носили единственный галстук… И вдруг!.. Он что-то затаил от меня, день ото дня мрачнея.
Восемнадцатилетним парнем, после десятилетки, Снегирев с первых же дней войны попал на фронт. Служил в пехоте. Под Ельней, в атаке, его правую щеку слегка задел осколок снаряда, на всю жизнь припечатав свое багровое тавро величиной в медный пятак. В сорок четвертом году в Пинских болотах, где-то под Бобруйском, он потерял ногу. С войны пришел на костылях.
Давнишняя, еще ученическая, как паутинка, тонкая и робкая мечта поступить на юридический факультет и стать следователем после войны стала главным, ни от кого не скрываемым пунктом жизни. На вступительных экзаменах из двадцати баллов набрал двадцать. Упомянули о блестящих баллах Снегирева даже в университетской многотиражке.
…И вот позади уже четыре с половиной года, сдано, девять сессий… Девять раз Николай Снегирев «ходил в атаку» и всякий раз выходил победителем, и без царапинки, — с неизменными пятерками в зачетной книжке.
А в последний год скис. Все это видели, но никто не догадывался почему.
Несколько раз меня подмывало спросить у Николая, что с ним случилось, почему он ходит как потерянный, но я ждал, что тот заговорит сам. И он наконец заговорил. Это было за месяц до летних экзаменов. Стояла пора майского цветения.
Вытянувшись во всю длину железной кровати с провисшей сеткой, Николай курил папиросу за папиросой. Я видел, как его словно распирает что-то изнутри, что вот-вот это «что-то» прорвется… Струна натянулась до предела, стоило чуть-чуть прикоснуться к ней — и она зазвучит. И я прикоснулся к этой струне.
— Слушай, ты, тамбовский соломатник! Мне надоело смотреть на твою кислую физию, читать на ней вселенскую скорбь. Говори, что у тебя.
Пустая штанина брюк моего друга свисала с койки. Пальцами единственной ноги, вылезшими из дырявого коричневого носка, он упирался в ржавые железные прутья спинки кровати, рядом с которой, притулившись к тумбочке, отливал восковой желтизной протез. Он стоял, как замерший на месте оседланный строевой конь, затянутый и перепоясанный добротными кожаными ремнями с блестящими металлическими пряжками.
Я ждал ответа Снегирева. А он все молчал…
Меня это начинало злить.
— Ну что ж, молчи, черт с тобой! — Я поднялся, чтобы уйти из комнаты, но Снегирев остановил меня взглядом. В какие-то неуловимые секунды я понял по его глазам, что он ищет точные и подходящие для мужского горя слова.
Снегирев затушил окурок, прилепив его к нижнему ободку стула, и бросил на меня тоскливый взгляд, который как бы выговаривал: «Ну что ж, слушай, друг мой. Но знай об этом только один. Говорю тебе об этом, как гробовую тайну».