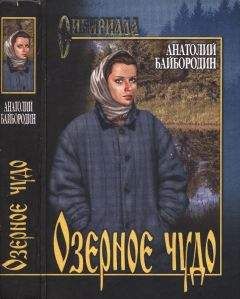Ознакомительная версия.
Вот и Краснобаев Иван, молодой заправский дворник, на пару со светилом ласково озирает чисто прометенную, вылизанную усадьбу в музейной деревне-малодворке Тальцы, потом прячет метлу под высокое крыльцо, чтоб не искушала проказников, — дальше положишь, ближе возьмешь, и, чуя в душе лад, в мышцах отрадную усталь, смущенно улыбается — блазнится дворнику: жена богоданная, синеокая, с русой косой на млечном плече, выглядывает из зорево пылающих окошек, любуясь Иваном. Не шибко и красовитый, не франтишко завитый — пучеглазый и носатый, большеголовый и осадистый, вроде в корень ушел, но работящий, домовитый, двужильный, не мужик, яремный бык, на коих бабы в войну целик драли, пашню пахали. Не присядет, сердечный, от темна до темна пашет в поте лица, чтобы ей доля да холя, чтоб и чадушки-оладушки зрели, спели, наливались силушкой, набирались ума-разума. Чуя спиной ласковый погляд, степенно, вразвалку шагает Иван к свежерубленым баракам, что желтеют на угоре, за картошечным клином, буйно истекающим белым, сиреневым цветом, за ручьем, что утробно журчит в лохматой кочкаре и густой осоке. В янтарно смолистом бараке Иванова тенистая дворницкая камора, утаенная черемушным и бо-ярковым плетевом — отрадно жить в глухой и прохладной тени, когда на воле — белый зной, плавящий душу и память. В каморе той, сменив метлу на гусиное перо, куда впихал черный стержень, в горьких и сладостных муках денно и нощно плетет Иван сказы и бывальщины, а то и на простушку-повестушку замахнется, а как испишет мелким бисером светло-серые четвертушки, — отстучит исписанное на машинке.
Выйдя за деревенскую околицу, Иван замирает — вроде зов нежно колыхнул ухо — снова оглядывает музейные подворья, похожие на ряженых мужиков и баб, и снова плетет им песнь, заздравную и заупокойную словно взаправдашней деревухе-вековухе, которую Иван запечатлеет на своей гремучей и скрипучей ветхозаветной машинке. И будет такой зачин…
«Не ветшая в насмешку над мертводушным и душным, бетонно стылым жильем, столетние избы мудро и покойно, с погостовой отрешённостью от жизни, красуются на ангарском яру, вросши в берег закаменевшими, лиственничными корнями, словно и не рубили их мужики русские, а избы взросли из земной тверди и заматерели, как взрастают и матереют кряжистые листвени, сол-ноликие сосны, подпирающие небесный купол.
Подле русской сибирской избы явственно чуешь сухой, белесый, протяжный и распевный лад крестьянских будней: вот заголосил бывалый петух, ревниво подхватился молодой, задорный, и, разбуженный певнями, зоревый свет с виноватой поспешностью стирает с морщинистых венцов ночную хмурь, увеселяет сруб золотистым теплом; вот в стайке глухо взмыкнула корова, ей подтянула соседская, потом вдоль улицы поплыла рассветная песнь пастушеского рожка; а вот щекастая, розовая со сна, дородная молодуха опустилась по лесенке из сеновала и, смущенно оправляя сарафан и выбирая из волос приставшие сухие былки, счастливо улыбается, вспоминая чаровные сны, любуется утренней синеве, потом, схватив ведра и коромысло, раскачисто плывет к реке, над которой стелется молочный туман; а вот, напоивши коня, вздымается с яра крутоплечий мужик, при виде молодухи замирает в седле, но не зарясь греховно на бабье обилие, но дивясь чадородной мощи, что сродни хлебородной матушке-земле. И, осенив себя крестным знамением, воскликнет мужик: «Господи, Иисусе Христе, столь благолепны и обильны земля Твоя и людя Твоя…И жить бы нам в ладу и любви, и славить Тебя денно и нощно…»
— Не-е, паря, рассказ не выйдет, разве что очерк о малодвор-ке…. — говорит Иван писателю, что поселился в душе и разуме.
Давненько, с той поры как искусился сказительством, с головою утопая в воображенном мире, облекая мир в словеса, Иван беседует вслух сам с собой, да к тому же вдругорядь толкует сразу и за себя, и за героя либо уж за собрата по несчастному ремеслу, согласного и супротивного. Случается, забормочет, затокует на людях, сам того не замечая, потом спохватится, оглядится виновато, узрит, что люди удивленно и сострадательно косятся на него, благо не крутят пальцем у виска: дескать, не все дома у паренька, к соседям ушли и загостились. Вот и ныне поразмыслил вслух:
— Доведу очерк до ума… какой уж есть умишко, доведу до русского духа… какой уж есть, и запечатлею в слове… какое уж Бог дал, а там, глядишь, и — очерковая книжка, и можно в Иркутске счастье пытать, а можно и в столице, чем леший не шутит…
Облачая словесами сказ, витающий в распаленном воображении, бредет Иван мимо бревенчатой церквушки — привезли с Илимского села да неверно собрали — алтарем к солносяду, а перебрать руки не доходят. Вот про церковь из родового села Укыр, как ее боголюбцы созидали, а христопродавцы сокрушали, и вызревает, наливаясь зерном словесным, то ли боль, то ли быль…
«В уездном селе Укыр, как поминала бабка Маланья и мать, потом, уже созрев, воображал Иван в редкие часы душевного предрассветья, — жаром горели в закатном солнышке купола и маковки белокаменной церкви во Имя Спаса, самой благолепной на сотни верст по Старомосковскому тракту, пробитому сквозь тайгу и степи от Верхнеудинска до Читы. Церковь призрачно мерцала перед задумчиво-осветленными, обмершими глазами Ивана, ласково слепленная из синеватого вечернего марева, в изножье своем бережно укутанная миражным выдохом сморенной за день земли, отходящей к летнему сну; оживала церковь, в кружевном убранстве похожая на раскидистую березу в серебристо-синей изморози, с крестами, облитыми багрецовым зоревым светом. Зрел Иван сие и слышал, будто из поднебесья, как негасимо плыл над озером, над березовыми гривами, над приболоченными полями и таежным хребтом протяжный, с переливами, влекущий, синеватый колокольный звон.
И виделось Ивану горделиво и завидливо, как мужики-мастеровые с постом и молитвой, с русским великотерпением, в Божием озарении лепили ее по кирпичу, яко ласточки гнездовье; и вдруг стылой змеей вползало в душу сомнение духе своем и праве возводить храм Божий, и обессиленно висли руки плетьми; но, помолясь, перекрестясь, плюнув через левое плечо в харю ляда нечистого, зрели мужички омытым и ожившим оком церкву во всей ее лебяжьей белизне и тонкости, во всех ее по-русски щедрых, теплых й певучих кружевах; зрели мужички в православном озарении грядущую лепоту и поспешали обратить видение в явь, чтобы из рода в род тешила церква и очищала зрак человечий — око души, и чтобы грела Русь забайкальскую любовь к Отцу Небесному и брату земному, чтоб не выжглась палящими морозными ветрами надежда на спасение и покой, вечный и блаженный.
Строили церковь в уездном селе Укыр не один год, порушили в считанные дни, — ломать не строить; и негде было отвести душу от тоски и теми, на любовь изладить и земное терпение, потому что вместе с уездной разорили церкви и в волостном селе Погромна и в Сосново-Озерске; благо, что хоть иконы выжили по избам, и это оберегало от последней предсмертной кручины.»
— Роман бы напахать, — вздохнул Иван, припомнив описание церквей, уездной и волостной, — и туда про церковь… Хотя… — Иван болезненно сморщился, — хотя… как это описание в роман вставишь?! — шибко уж откровенно, в лоб, газетой припахивает… Да и веры мало… в Царствие Небесное — на земле жить охота… Может, переписать?.. Ну, посмотрим…
Говорит Иван тихо, сам с собою, вздымается от ручья тропой, едва пробитой среди колосящейся травяной кудели; поминает с улыбкой: давнишнее лето, когда гостила в Тальцах малая дочь Дарья, еще не вставшая на ноги… Ивана вдруг выдернули на усадьбы, и пришлось Дарью с собой волочить; вначале нес на горбушке, а потом решил пустить на вольный выпас. И вот ползла дева по тропе вслед за ним; и то ли Иван счастливо заплутал в озаренных думах, то ли заболтался сам с собой, то ли залюбовался летней благостью, но вдруг обернулся назад и не высмотрел Дарьи на тропе. Испуганно метнулся назад, — пусто, огляделся вокруг, и лишь по раскачиванию луговой овсяницы смекнул, где Дарья пасется и как далеко от тропы учесала, хотя и ползком. Догнал, сволок на тропу и порадовался: слава Те Господи, мать не видала, а то бы вся изворчалась: «Вот и доверь ему дочь?! Ребенок в крапиву залезет, а он и ухом не поведет, глазом не сморгнет. Писа-атель…»
Вспомнилось с умиленной улыбкой: на закате вдруг спохватился, что завтра день рождения у Дарьи, а подарка не припас, запамятовал, а теперь и некогда, да и не на что: в кармане — блоха на аркане, а в холодильнике мышь повесилась от голода, холода. И тогда присел Иван у горящего комелька, призадумался, пригорюнился, глядя, как синеватые, зеленоватые багровые листья огня колышутся над жаркими углями; и отроческим сном привиделась лесная сказка…
«Дивная вышла сказка: в тайгу наладился дед Савраска. Землянику собирать, кости древние размять. Глянул в окошко: у калитки лукошко. Может, ребятёшки подкинули кошку?.. Узнать охота, вот и выбежал дед за ворота. Дивится: чтой-то в лукошке том шевелится?.. Разматал дед пеленки, а там — девчонки-дарёнки. 06-радел дед Савраска да бабке Малахайке сказал: дескать, Боженька детишков послал…»
Ознакомительная версия.