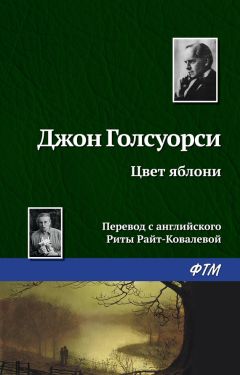Ознакомительная версия.
На следующее утро он получил деньги по чеку, но старательно избегал даже смотреть в сторону магазина, где продавалось то светло-серое платье. Вместо этого он купил для себя кое-что из необходимых вещей. Целый день он был в каком-то нелепом настроении, как будто злясь на себя. Вместо страстного томления последних двух дней наступила какая-то пустота, словно вся тоска изошла в слезах. После чая Стелла подошла к нему и, протягивая какую-то книгу, робко спросила:
– Вы читали это, Фрэнк?
Это была книга Фаррера «Жизнь Христа». Эшерст улыбнулся. Ее забота о его душе казалась ему смешной, но трогательной и вместе с тем заразительной: ему хотелось хотя бы оправдаться перед ней, если уж нельзя обратить ее в свою веру. Вечером, когда девочки вместе с братом чинили рыболовные снасти, он сказал:
– В основе всякой официальной религии, насколько я понимаю, всегда лежит идея о воздаянии – что ты получишь, если будешь хорошим. Как будто выпрашиваешь себе какие-то милости. По-моему, все это началось со страха.
Сидя на диване, Стелла училась делать морской узел на куске веревки. Она вскинула глаза:
– А по-моему, все это гораздо глубже.
Эшерсту снова захотелось показать свое превосходство.
– Вам так кажется, – сказал он, – но в нас сильнее всего именно желание получить сторицей. Вообще трудно в этом разобраться!
Она задумчиво сдвинула брови.
– Я не совсем вас понимаю! Но он упрямо продолжал:
– А вы подумайте и тогда вы поймете, что самые религиозные люди – те, кто чувствует, что жизнь не дала им всего, о чем они мечтали. Я верю в то, что надо делать добро, потому что добро само по себе прекрасно.
– Значит, вы все-таки верите, что надо делать добро, быть хорошим?
Как она была прелестна в эту минуту! Да, с такой как она, легко быть хорошим! Эшерст кивнул головой и перевел разговор на другую тему.
– Вы лучше покажите, как делать морской узел, – попросил он.
Дотрагиваясь до ее тонких пальцев, он чувствовал какое-то успокоение, даже радость. И перед сном он сознательно думал только об этой девушке, как будто отгораживаясь от всего, он искал защиты в ее спокойном, ласковом сестринском внимании.
На следующий день он узнал, что решено поехать поездом до Тотнеса и устроить пикник у замка Берри-Помрой. Все еще напряженно стараясь позабыть прошлое, Эшерст уселся в экипаж рядом с Холлидэем, спиной к лошадям. И вдруг на набережной, почти у самого поворота к вокзалу, у него чуть не выскочило сердце. Мигэн, – сама Мигэн, – шла по дороге в своей старой юбке и блузе, в синем берете, – шла и заглядывала в лица прохожих. Эшерст невольно поднял руку, чтобы закрыть лицо, и сделал вид, будто вынимает соринку из глаза. Но сквозь пальцы он видел ее, видел неуверенную походку, так непохожую на обычный ее легкий шаг, жалобное, недоумевающее лицо, как будто она, словно собачонка, потеряла своего хозяина и не знает, бежать ли вперед или назад, не знает, куда ей броситься. Как могла она прийти сюда? Как удалось ей ускользнуть из дома? На что она надеялась? С каждым поворотом колеса экипажа, увозившего его от нее, сердце Эшерста сжималось сильнее, что-то в нем возмущалось и требовало, чтобы он остановил экипаж, выскочил, догнал ее. Когда экипаж повернул за угол к вокзалу, Эшерст вдруг вскочил и забормотал, открывая дверцу: «Простите… я… я забыл одну вещь… не ждите меня… Я нагоню вас следующим поездом…» Он прыгнул, споткнулся, чуть не упал, но сохранил равновесие и пошел по дороге, а экипаж покатил дальше, увозя удивленных и растерянных Холлидэев.
За углом Эшерст увидел Мигэн – она уже ушла далеко вперед. Он сначала побежал, потом остановился и пошел обычной своей походкой. И с каждым шагом, приближавшим его к ней и удалявшим от Холлидэев, он шел все медленнее и медленнее. Разве что-нибудь изменится оттого, что он увидит ее? Как сделать их встречу и последующее объяснение не такими ужасными? Ведь скрывать было нечего: с тех пор как он встретился с Холлидэями, он почувствовал, что никогда не женится на Мигэн. Просто будет необузданная страсть, тревожная, трудная, полная угрызений совести, а потом… потом ему надоест ее жертвенность, надоест ее доверчивость и простота, свежая, как утренняя роса. А роса высыхает…
Берет Мигэн ярким пятном мелькал далеко впереди. Она шла, заглядывая в лицо всем прохожим, то и дело поднимая глаза к окнам. Приходилось ли другим испытывать такие страшные минуты? Эшерст чувствовал, что, как бы он ни поступил, он будет скотиной. И он застонал так, что какая-то служанка, шедшая впереди, обернулась в недоумении. Он увидел, как Мигэн остановилась у парапета набережной и стала смотреть на море. Эшерст тоже остановился. Может быть, она никогда прежде не видела моря и даже теперь, поглощенная своим горем, была поражена этим зрелищем. «Да, она ничего не видела, – подумал он, – у нее вся жизнь впереди. И ради мимолетного увлечения, на несколько недель, я собираюсь сломать эту жизнь! Нет, лучше повеситься, чем сделать такое!» Вдруг ему представились спокойные глаза Стеллы, ее светлые пушистые волосы, растрепанные ветром. Нет, это будет чистейшим безумием, это значит отказаться от всего, что он ценит, потерять уважение к себе самому. Он вдруг остановился и быстро пошел обратно к вокзалу. Но мысль об этой маленькой растерянной фигурке, об этих испуганных глазах, вглядывающихся в прохожих, как обухом стукнула его по голове, и он снова повернул на набережную. Но беретик Мигэн исчез: яркое пятнышко утонуло в толпе гуляющих. И охваченный внезапным порывом раскаяния и тоски, с решимостью, так часто просыпающейся в человеке, когда ему кажется, что жизнь уносит от него что-то дорогое, он кинулся в толпу. Девушки нигде не было. Больше получаса он искал ее, потом вышел на берег и бросился ничком в теплый песок. Он знал, что найти ее легко – стоит только пойти на вокзал и подождать, пока она вернется после своих бесплодных поисков. Или, еще лучше, сесть самому в поезд и поехать на ферму, чтобы она застала его там, когда вернется. Но он неподвижно лежал на песке, а вокруг него весело играли детишки с лопатками и ведерками. Кровь в нем пылала, и жалость к маленькой, растерянно ищущей фигурке потонула в безудержном, диком желании, охватившем его. Все его рыцарское отношение к ней исчезло. Он жаждал снова держать ее в объятиях, снова чувствовать ее нежное тонкое тело, ее поцелуи, горячую первобытную покорность. Он хотел снова испытать несравненное чувство, нахлынувшее на него под яблоней, залитой лунным сиянием. И это желание было таким нестерпимым, таким напряженным, как желание фавна догнать нимфу. Торопливая болтовня светлого ручья, золото лютиков, скалы, где прячутся привидения, «страшные цыгане», голоса кукушек, стук дятла, уханье сов, красный месяц в бархатной тьме, живая белизна цветов, ее лицо высоко в окне, робкие влюбленные глаза, ее губы на его губах, сердце к сердцу, под большой яблоней… Воспоминания осаждали его – и все же он не двигался. Что боролось в нем, что подавляло жалость и жаркое желание, приковывало его к теплому песку?.. Три белокурые головки, девичье лицо с приветливыми серо-голубыми глазами, тонкая рука, пожимающая его руку, высокий голос, который спрашивает: «Значит, вы верите в то, что надо быть хорошим?» Да, все это и та атмосфера, какая бывает за высокой оградой старого английского сада, где цветут гвоздики, васильки и розы, где пахнет лавандой и сиренью, та свежесть, чистота, спокойствие все, что он с детства привык считать светлым, хорошим. Вдруг он вскочил. «Что, если она вернется и увидит меня!» – подумал он и быстро пошел вдоль берега к отдаленной скале. Он сел у самой воды, и прибой обдал его мелкими брызгами, – тут он мог по крайней мере думать спокойнее. Вернуться на ферму, любить там Мигэн, жить в лесах, среди скал – он знал, что это невозможно, абсолютно невозможно. А перевезти ее в большой город, держать такое дикое растение в какой-нибудь маленькой квартирке или меблированных комнатах… нет, вся его поэтическая душа возмущалась этим. Его страсть скоро пройдет, как проходит всякий порыв чувственности. В Лондоне ее простота, нетронутость ее ума сделают из нее лишь тайную его прихоть – и только. Чем дольше он сидел у скалы и глядел в зеленоватые волны, разбивавшиеся у его ног, тем яснее он видел все. Ему казалось, что ее руки и все ее тело медленно-медленно отделяются от него, медленно соскальзывают в море, и волны уносят ее прочь. И ее лицо, жалкое, испуганное лицо с умоляющими глазами, с мокрыми темными прядями волос, мучило, преследовало, изводило его. Он встал, перепрыгнул низкую гряду камней и спустился еще ниже, в маленькую закрытую бухту. Может быть, море вернет ему самообладание, охладит этот горячечный бред. Сняв одежду, он бросился в воду и поплыл. Ему хотелось устать до потери сознания, так, чтоб ничего не помнить, не ощущать. Он плыл не оглядываясь, быстро и далеко. Потом его охватил страх. А вдруг он не сможет вернуться к берегу, вдруг его завертит течение или, как Холлидэя, схватит судорога? Он поплыл обратно. Красные скалы казались страшно далекими. Если он утонет, там найдут его платье. Холлидэи узнают об этом, но Мигэн никогда: газет на ферме не читают. В сотый раз он вспоминал слова Фила Холлидэя: «Девушка из Кембриджа… рад, что у меня по отношению к ней совесть чиста». И в этот миг, под влиянием безотчетного страха, Эшерст поклялся, что жизнь Мигэн не будет у него на совести. Он сразу почувствовал себя лучше. Он доплыл до скалы, обсох на солнце, оделся. Острая боль в сердце уступила место смутной тоске, и чувство прохладной свежести охватило тело.
Ознакомительная версия.