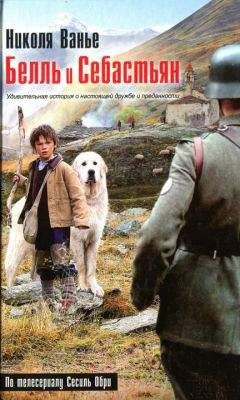И даже полиглотство этого странного человека не помогло нам найти общий язык. Увы!…
* * *
У меня даже обида временами вспыхивала на отца Александра: ну, почему, почему он не отговорил меня от этого странного замужества? Почему не топнул на меня ногой и не сказал строго: «Не совершай эту ошибку! Нельзя выходить замуж только из жалости! И только из желания сделать себе ещё хуже!»
Неужели отец Александр тоже считал, что для меня пусть и хуже, но только бы по-другому? Или он видел что-то ещё иное, чего я сама не видела?…
Или он учил меня пользоваться свободой? Он всё время учил меня пользоваться свободой. Есть духовные отцы, которые сами всё решают за своих духовных чад. И есть чада, которые с готовностью отрекаются от своей воли и действуют только по указке батюшки. Но это – не про моего духовного отца и это не про меня.
Отец Александр позволял мне совершать ошибки. Позволял учиться на них. Он не посягал на мою свободу выбора – на этот Божий дар. Он ничего не решал за меня. Он только учил меня пользоваться свободой. И молился за меня…
* * *
– Что это такое? – возмущался мой лечащий врач. – У тебя вместо живота ямка! Уже живот должен быть! Посмотри на своих соседок. Им уже места в общественном транспорте уступают. А тебе и на девятом месяце уступать, наверно, не будут! Когда ты начнёшь в весе прибавлять? Подумай о ребёнке!
Подумай о ребёнке… Я только о нём и думаю! О ком же мне ещё думать?… Я кладу руку на живот (точнее – на то место, где должен быть живот) и прислушиваюсь… – нет, пока ничего не слышно…
Почему так тоскливо, Господи?…
Неужели не могло быть иначе? И что это – на роду у нас написано? Мама осталась за девять месяцев до моего рождения одна, и я, по сути, тоже одна…
Самое долгое и, одновременно, самое быстротечное лето в моей жизни…
. Сегодня первое июня.
. А завтра – август,
. тридцать первое…
. Как происходит?
. Мне, наверное,
. Не догадаться никогда.
. Как, не начавшись,
. сон кончается?
. И только носит имя нежное…
. Кто эти лета копит бережно
. И вечно манит нас туда?…
. Кто посылает призрак праздника
. И голубые топи тополя
. Цветущего?…
. Тревожит тропами,
. Белеющими по ночам…
. Они уводят к лунным пастбищам,
. Где золотые одуванчики,
. Где сон-трава…
. А голос вкрадчивый
. Мне шепчет: "Август, тридцать первое…"
* * *
Как только меня выпустили из больничной клетки, (с условием, что буду отлёживаться дома), я тут же поехала в Новую Деревню.
Автобус, метро, электричка, ещё один автобус… Представляю, чтобы сказал мне мой лечащий врач, увидев меня трясущуюся на перекладных!
Но я была уверена, что всё будет хорошо. Ведь я ехала к отцу Александру.
Была суббота. Время близилось к пяти – к началу вечерней службы. Но храм был ещё закрыт. Во дворе – ни души. Это завтра, в воскресенье, к литургии сюда приедет много народу из Москвы. А к субботней всенощной приходят только новодеревенские старушки и Елена Семёновна, мама отца Александра.
Я сидела на крылечке своего любимого храма. Была середина августа, ласковое солнце запуталось в густых кронах… шелест старых дерев вокруг храма… потемневшие кресты погоста… Пролетали маленькие оски и стрекозки… Было тихо и спокойно в мире… Только во мне царапались тревожные вопросы, на которые я не знала ответа. И – самый трудный на сегодняшний день вопрос: «Зачем это всё со мной случилось? Какой в этом во всём смысл?…»
…И вот он уже идёт по двору, к храму, мой добрый батюшка, он улыбается мне своей тёплой, как летнее море, улыбкой.
И я спрашиваю его:
– Отец Александр, скажите, какой в этом во всём смысл?
Он смотрит на меня… так глубоко смотрит, как будто проникает взглядом не только в мою душу, но и в моё будущее… И спокойно, с уверенностью говорит, кивнув весело на мой живот:
– Вот он родится, тогда и узнаешь, какой в этом во всём смысл!
Ты у меня – от полюшка клеверного –
Сладкий да ласковый.
Ты у меня – от дороги просёлочной –
Нрав твой неровен.
Ты у меня – от рощи берёзовой –
Глазаньки ясные.
Ты у меня, мой первый, единственный, –
От этой звезды над полем…
Ты у меня – от полночи сказочной –
Тайна бездонная.
Ты у меня – от утра весёлого –
Всё обещающий.
Ты у меня, мой первый, единственный, –
От этой звезды над полем…
* * *
Твои первые десять лет я почти не спала. Сначала – с тобой за компанию: не спал ты – не спала и я.
Потом много лет работала по ночам…
А в те, первые месяцы, брала тебя на руки и садилась за свой письменный стол у окна: надо было писать курсовые. А ещё я вела дневник, в котором писала о тебе, моя радость!
На сгибе левой руки – ты, мой маленький, в правой руке – шариковая ручка. Именно в те ночи я и почувствовала, что я – на острове. Одна со своим сокровищем. Телефона у нас тогда не было, и ещё много лет его не было, а мобильников вообще в ту пору не существовало. Единственное, что меня связывало с внешним миром – это чьё-то бессонное окно, такое же бессонное, как моё. В доме у канала, на 16-том этаже, под самой крышей светило ночи напролёт чьё-то окно…
* * *
Никогда не забуду первую ночь, как мы вернулись с Антошей из роддома… Очень весёлая была ночка!
Безухов, оказывается, не купил пелёнок! Да, признаюсь: из жуткого суеверия я ничего не подготовила для сыночка заранее. Но Безухов сказал: я всё куплю сам. И маме моей сказал, что купил. Ну, мама на выписку принесла нам комплект пелёнок. И, оказалось, что это – всё!
– А где пелёнки? – спрашиваю, когда приехали домой.
– У меня нет денег на пелёнки.
– Тогда займи у кого-нибудь.
– Но не сейчас же! Завтра займу…
Первая ночь. Холод собачий. Ты всё время мокрый. В доме 15 тепла. Безухов сладко спит под двумя одеялами… Я рву на пелёнки простыни и свои летние хэбэшные платья… Беспрерывно пеленаю тебя. Тут же стираю. Но ничего не успевает высохнуть. За окном – февраль… Вся кухня опутана верёвками с медленно сохнущими, кажется – совсем не сохнущими пелёнками… Беру утюг и сушу эти самодельные пелёнки утюгом… А молока у меня почти нет… ты голодный, пьёшь сладкую воду и никак не можешь напиться…
* * *
…Ну, вот он и вывез свои книги, и шкафы, и тапочки, и торшер… Вывоз вещей длился не один день. И каждый день шёл снег…
* * *
Потом он приезжал ещё раз: забыл тут свою папку с чистой бумагой и конвертами.
– Послушай, – говорю, – мне тут письма надо написать, а конвертов нет. Продай мне три конверта.
И протягиваю ему пятнадцать копеек (конверт в то время стоил пять коп.) Он взял пятнадцать копеек и дал мне взамен три конверта.
– И тебе не стыдно? – спрашиваю.
– Что «не стыдно»? – не понял он.
– Не стыдно брать у меня пятнадцать копеек?
– Но ты же сама мне даёшь. Почему я должен отказываться?
– При этом ты не оставляешь ни копейки на сына.
– Но ему ведь не надо пока еду покупать. Ты ведь его своим молоком кормишь. А денег у меня сейчас нет.
Он засунул свою пухлую папку в потрёпанный портфель.
– Кстати, тут ещё мои пластинки оставались…
– Забирай скорее свои пластинки! Скорее, ну! И выметайся из моего дома!
Он торопливо прихватил коробку с пластинками под мышку и пошёл, оставляя за собой грязные мокрые следы… С обиженным видом оглянулся в дверях:
– Могла бы и не кричать напоследок…
Но я уже хлопнула дверью, едва не прищемив ему нос.
* * *
Господи, почему в жизни столько мелких противных подробностей?!
Почему нельзя просто любить своего ребёнка и писать стихи? Почему столько вещей, тянущих к земле?… – с тоской думала я, берясь за половую тряпку, чтобы удалить грязные лужи его следов…
А!… – вдруг озарило меня. – Наверное, чтобы мы об эти неприятные вещи обтачивали свой характер и своё чувство юмора! (Господи, сколько же грязи в доме от этого Безухова!) И вдруг вспомнилось, что я читала когда-то про птиц, в какой-то научно-познавательной книжке. Птицам, оказывается, чтобы переваривать пищу, надо ещё клевать песок и мелкие камушки. Мелкие камушки и песок внутри птицы – как жернова: помогают пище перемалываться. А без этого пища не усваивается, и птица гибнет…