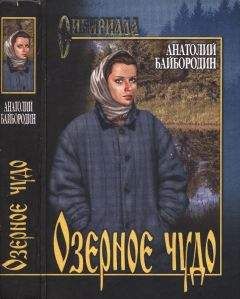Ознакомительная версия.
Ох, почуял Иван: захлебнулась бывальщина зеленой тиной, утонула в лягушачьей старице и, как унылая старческая жизнь, слепым одром бродит по кругу, словно в присказке: жили-были журавль с журавлихой, поставили стожок сенца, не начать ли сказку с конца… Думка чадна, недоумка бедна, а всех тошней пустослов, и тут же вспомнил речение Тертулиана: «Берегись, чтобы те строки, которые ты написал, не были предъявлены на Суде к обвинению твоему, подписанные рукою Ангелов». Поклонился заморскому любомудру и вырешил: отложу горемычную бывальшину в долгий ящик, пусть отлежится, а взамен доведу до ума повестушку — вчерне запечатленное сенокосное отрочество, с хмелящим духом свежесметанных стогов, с пылающими закатами, яро сияющими звездами, где блазнилась Ванюшке, рано и безбожно вызревшему, русокосая отрада: плывет над жнивьем и тянет девью кручинушку: «Где-е гу-уляли мы с тобо-ою, там высокий лес с травою…» Достал Иван черновичок, глянул, зачитался…
«…Здесь, — Захар смотрит на прибранный луг, на островерхий зарод посередине, на притуленный к раскидистому листвяку, осиротевший после сенокоса, отцовский балаган, где скоротал не одну ночку, — здесь и они с тятей косили, а нынче он, бедный, один с девками да малым братом управился…
А парнишкой, бывало, копны на кобыле возил к зароду, а тятька с дедом и матерью метали сено. Иногда верхи едешь, наяриваешь пятками по кобыльему животу, иногда пеши идешь, тянешь за недоуздок Гнедуху, которая жила в хозяйстве… А это уж потом… потом, литовку в зубы — и пошел плечо зудить, пока оно не разойдется, пока солнечные лучи до шершавой сухости не вылижут росу с травы, а тут и мать покличет к балагану чаевать. Отец не погоняет, но сам не присядет, и другим совестно, — надо, кровь из носа надо, к Илье откоситься, потому что до Ильина дня в траве пуд меду, а после — пуд навозу: трава перестоит, посыплет семенем, или — того хуже — зарядят на Авдотью-сеногнотью гнилые дожди, жди потом дожидайся погожих деньков и вороши прелую кошенину.
Парнишкой же, бывало, бредешь низом, и сморенная Гнедуха упирается, машет хвостом, передергивается всей блестящей от пота кожей — пауты донимают, и с натугой тащит копну на волокуше. А босые ноги твои по щиколотку тонут в зыби, а в следы насачивается ржавая вода. Пить охота, но терпи казак, терпи… Ступни режет остро подрубленная трава-отава, пауты кружат перед носом, того гляди, и цапнут окаянные; а под вечер мошка одолевает, тучами кружащая возле тебя и Гнедухи, к тому же поедом едят тебя осатаневшие на вечерней заре комары, и хочется, до слез хочется встать под дымокур из коровьего кизяка. А еще и соленый пот застилает, разъедает глаза, и все же радостно, вольно на душе — тятьке подсобляешь… И кажется, будто тятька лишь то и делает, что смотрит на тебя одобрительно: мол, ишь ты, от горшка два вершка, а уж подмога ладная — путный, однако, парень растет — хозяин, дай ему Бог счастьица. А уж как и в самом деле перепадет тебе ласковый, подмигивающий тятькин взгляд, так в лепешку бы расшибся, абы еще заработать такой. Бегом бы копны возил, сам бы, кажется, припрягся к Гнедухе, лишь бы тятька глянул и с улыбкой покачал головой: дескать, о дает парень, а! И утешно глянуть назад, увидеть, как редеют копешки, как подбирается, светлеет луг, точно изба у хозяйки-чистотки… и дышать все легче и вольнее…»
— Перебор, однако, с деревенским говорком, — размышляет вслух Иван. — Да и кружев наплел — тяжело нынешним читать, с газетами обвыклись… Опять в журнале раздолбают: де, повесть ваша страдает этнографизмом, фольклоризмом и словесным орнаментализмом… — Иван слагает в уме журнальные отказы: вышло, что дюжины две схлопотал, да все из русских журналов, к поганым и носа не совал — дверью прищемят. — Да-а, так и вся жизнь улетит корове под хвост, в сплошной переписке да перезвонке с журналами. А достучишься, одна радость: от ворот поворот, поцелуй пробой и вали домой. Сердобольные интересуются… — тут Иван — одного поля ягода с Иовом Горюновым — передразнил воображенных столичных редакторов: — «Нет ли у вас другой какой… завалящей профессишки?..» — «Есть — дворник, и Бог весть, может, с метлой и завершу грешный век. Лишь бы на метле не улететь…»
Стучит Иван на разбитной машинке, долбит словно неугомонный дятел сухостоину, из железной кружки дует чай, густой и вязкий как смола, чадит крепким табаком и, откинувшись в сладостном изнеможении, блаженно укрыв глаза, томится грешным помыслом: «На той неделе махну в Иркутск, всучу повесть мужикам…может, самому Распутину?., либо сена клок, либо вилы в бок…. Да не-е, какие вилы — ахнут…» Хотя Ивану неведомо, что и отрадней душе: хвала или хула, и уж довременно печалит душу переживание: лишь бы не шибко хвалили, не смущали хвалой, когда знобит, и тело сотрясает мелкая, суетная рябь, а щеки и уши горят нестерпимым полымем, словно деревенская учителка надрала за скоморошьи малахаи, подрисованные большевикам из потрепанной «истории».
Если удуманный Иваном дворник и писатель Иов Горюнов, искореженный бесом зависти, от нищеты и бесславия озлобился и ополоумел, Иван же не унывает, на Бога уповает: у Бога милости много, не как у мужика-горюна. Не-е, Иван не унывает — грех, мягко кружит по дворницкой каморе, мысли скрадывает, слова складывает, гадает, как вершить песнь, чтобы… словно журавли отпели осенины в синем небе…
Снова привиделось сенокосное детство, Иван перекрестил печатную машинку и тронулся с Богом… но взгляд нечаянно сблудил к распахнутому окошку, и писатель всмотрелся сквозь куст боярки — «толком не видать, вечером прорежу куст» — и углядел ромашковый луг у соседнего, свежесрубленного барака и музейную деву Арину Родионову с грудным чадом на руках. Чадушко — в чем мать родила — сучит пухлыми ножонками, машет ручонками, а молодуха, щедро созревшая, густо загоревшая, отчего белый купальник кажется снежным, тискает малого и плывет по тропе к скошенной полянке, где раскинуто пикейное покрывало и согрелась шайка с водой. Молодуха с тарабарным говорком окунула малого в шайку — парнишока радостно загулил, намылила — заревел телком, окатила теплой водицей из кувшина, приговаривая «с гоголя вода, с Пети худоба» — и малый опять залепетал. Укутав парнишонку махровым полотенцем, молодая опустилась на цветастое покрывало, выпростала грудь, и малый жадно приник к сосцу, а как отвалился бутуз, тут и дрема одолела. Раскачивает мать парнишонку на руках словно в берестяной зыбке, подвешенной к потолочной матице, и напевает:
Ой вы, котики коты,
Наняситя дрямоты
Спитя мои деточки,
Мои малы веточки…
Любовался Иван молодухой, завидовал белой завистью ее мужику, под стать женке добротному, крутоплечему музейному плотнику Петру, и тоскливо косился на исписанные листы, на печатную машинку. «Э-эх, так и живая жизнь загинет в сочиненной, воображенной… Мне бы, деревенскому увальню, землю пахать, жито сеять, избы рубить да с деревенской бабонькой ребятёшек плодить — два на году, один на Покрову… Вот она взаправдашняя жизнь, вот она красота, вот он рай земной… Но не судьба. Видно, жить мне в добре да в красне лишь во сне…»
Пришла Аринина свекровка, дородная хохлуша, и унесла малого в барак, а молодая пристально огляделась вокруг…Иван испуганно и стыдливо отпрянул в сумерки дворницкой каморы… подумала, подумала Арина, да и, скинув купальник, похожий на сбрую из белой сыромяти, растелешилась на цветастом покрывале, в сладостной зевоте изогнулась смуглым телом, подставляя наготу усердно палящему солнцу. Ошалел Иван от эдакой красы, а когда очнулся, в диве качнул головой: «Вот баба, а!., троих принесла, и никакого ущерба — дева девой, хоть завтра под венец….» Что греха таить, загляделся Иван на молодуху, на то и зарные мужичьи глаза… С крутым матерком, зубовным скрежетом плюнув на себя, блудливого кота, резко задернул шторы, вкрутил в машинку свежий лист, бездумно вперился в бумажную четвертушку, бисерно исписанную карандашом, а в голове жаркая пустота, в глазах дева маячит. Запел было громогласно: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, поми-илуй на-ас…», потом «Царя Небесного» прочел, но и молитва нынче не спасла; долго терпел, да не выдержал, устроил щель в шторах, вгляделся, но от молодухи осталось лишь томительное видение.
Послышался тревожный стук в дверь, явилась Екатерина Романовна, музейная начальница, белокурая, холеная — у ней мужик — большая шишка — со вздохом покосилась на печь в причудливых облаках копоти, оглядела казенное жилье, сплошь увешанное че-ремушными и тальниковыми корнями, которые ангарская течь вылизала до костяной белизны.
— Иван Петрович, вы уж меня извините, но придется вам писать ответ на объяснительную записку вашего соседа. Вы Карлу Моисеичу угрожали топором?..
Иван обомлел, оторопел с отпахнутым ртом и выпученными глазами.
Ознакомительная версия.