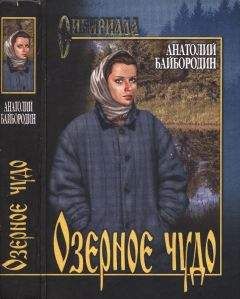Ознакомительная версия.
XVII
Выгулявшись, опохмелившись, после сурового назидания молодухи, отец с грехом пополам запряг Гнедуху, погрузил маломальские харчишки, какие припасла Фая, и отчалил в тайгу. А коль брат Илья от зари до зари лечил и легчил скотину, а то и вовсе уезжал с ночевыми и возвращался порой на развезях, чудом выпрягая кобылешку из телеги, то Ванька с Танькой угодили в суровые молодухины руки.
Бредил Ванюшка школой уже с весны, когда снег еще не сошел, но по солнопекам, на проталинах проклюнулись оповестни-ки весны, — цветы-прострелы, похожие на желтоватых, голубоватых, пушистых цыплят. И потом все лето жил в нетерпеливом и счастливом выжидании осени; впереди светило нечто новое, волнующе красивое, должное круто и празднично переменить его жизнь, обрыдшую своим однообразием, когда день ото дня не отличишь. Вот почему, перекинув через плечо сшитую матерью на руках холщовую сумку-побирушку, куда уложил книжки и тетрадки, сломя голову побежал учить азы и буки.
Рубленная еще при царе-косаре школа о двух классах почернела матерыми венцами, вросла в землю, но к сентябрю ее под-чепурили, — выкрасили наличники, колоды, рамы, двери и полы, отчего школа, принарядившись, стала походить на молодящуюся старую деву. Ванюшка едва открыл тяжелую, набухшую сыростью дверь, — к ней, чтоб сама закрывалась, и не выстужалось тепло, подвесили через блок увесистую гирю; переступив через исшорканный, но подкрашенный порог, парнишка очутился в узких сенях, где белели две печки и две высокие двери в классы, подле которых поджидали учеников две учительницы: молодая румяная и пожилая чернявая, вскоре окрещенные безжалостными архаровцами краснопупой и чернопупой. И хотя так желал Ванюшка попасть к молодой и румяной, но угодил в руки чернявой, а та, навроде молодухи, решила выбить из парнишки лишнюю дурь.
Не прошло и двух недель, как Ванюшка остыл к учению: учи-телка бранила, ребятишки шпыняли, — пужливый рос, тележного скрипа боялся, да и простофиля добрый; и лишь зацвел таежный хребет за поскотиной желтым, малиновым, бурым осенним цветом, парнишка и вовсе бросил учение. Бывало, под конвойным взглядом молодухи наладится утром в школу, кинет в холщовую сумчонку азбуку, букварь и тетрадки, упакует в ситцевый мешочек чернильницу-непроливашку да нет бы в школу бежать, завернет на озеро, сумчонку заховает под лодку и тетрадки изрисовывает или с дошколятами потешается. Даже подсобляет мух хоронить… Словно выудив из родовой памяти ранешний деревенский обычай на Сёмин день, вырежут парнишки из репы гробик и, упокоив там пойманных мух, весело вопят, утирая слезы: «Мухи вы мухи, Комаровы подруги, пора умирать. Муха муху ешь, а последняя сама себя съешь…» Зарыв муший гробик в сырой песок, поминают, чем Бог послал, что из дома тайком прихватят.
А уж полыхает вечерними зарницами месяц-зоревик, утрами седая паутина на приозерном лугу, и деревенские гуси тревожно гагачут, охлопывают крыльями линялую мураву, тоскливо глядя, как табарятся гуртами и, загнув над озером прощальный круг, уплывают дикие гуси небесной синей степью. И гаснущим эхом доплывает с высоких небес на осеннюю землю птичий голос: прощай, матушка-Русь, я к теплу потянусь… И влечется Ванюшка тоскующим оком за улётными птицами, и чудится: летят гуси на лесной кордон, где осталась материна ласка… и текут слезы по щекам.
Если на озере ни души, дует Ванюшка прямиком на рыбзавод-ской конный двор, где конюшил дед Кузьма. Заберется на приморенную рыбачью клячу, плетется по деревне, похваляется, — вместе с дедом гонит табунок к озеру на водопой.
— Приучайся, Ваня, с конями обращаться. — поучал дед Кузьма. — В ранешню пору как раз на Сёмин день чадо подстригали и на коня сажали. Вот твой большак Ильюха-шыбирь, тот в лошадях толк знат… доподлинно.
Сродник Ванюшкин сам расписывался крестиком и внучатого племяша к учению не понужал: неча мозги засорять и душу смущать; мол, деревенскому парню, коль лошаденку запрягать наловчился, больше и нечему учиться.
— Но, однако, подучи еще заговорное слово Флору и Лавё-ру, отчитывать коней, ежли занедужат, — толковал Ванюшке дед Кузьма. — Такой был нашепт: мученики достохвальные, всечест-ные братья Флор и Лавёр, услышите всех притекающих к вашему заступлению, и как при жизни вашей вы исцеляли коней, так и теперь избавляйте их от всяких недугов… Бывало, занедужит кобыла жерёбая, отчитаешь ее, святой водичкой обрызгаешь да ладаном окуришь, — недуг с кобылы рукой сымат. Ожеребится — и жеребенок ладный. Флор да Лавёр до коней добёр. Во как, Ванюха — кобылье ухо. А учеба чо?! Не будь, Ванюха, грамотен, а будь памятен. Так от…
В школе путние ребятишки хором зубрили: «Пришла весна, настало лето, спасибо Ленину за это», а Ванюшка со святыми Флором и Лавёром да дедом Кузьмой учился хворых кобыл заговорной молитвой править.
Плетется, вьется пеньковая веревочка, а приходит и конец: недолго парнишка отлынивал от школы, прохлаждался на озере или конюшил напару с дедом Кузьмой. Вначале парнишку размалевали в школьной стенгазете: задом наперед, чтоб смешно и обидно вышло, запрягает древнюю клячу. Потом грянула прямо на дом чернявая учительница, потолковала с глазу на глаз с молодухой, и та вечером наладила вольному деверьку жаркую баню; поставила в угол на весь вечер, а утром, будто непутевого бычка на поводу, отвела за ухо в школу.
Со слезами и горем пополам, но к учению Ванюшка приноровился и даже вышел в ударники, нацелился в отличники, но тут молодуха, будто с цепи сорвалась или с помела упала, летая глухими ночами на лысую гору. Жизнь ее с братом Ильей шла наперекосяк, и вскипевшую бабью досаду Фая вымещала на ребятишках: у злой Натальи все канальи. Перечить же Илье, что воду в ступе толочь, да и рисковано, — может и рукам волю дать.
Бывало, прибежит молодуха из промкомбината, где кроила и строчила на машинке немудрящую деревенскую одёжу, сгоношит без всякой охоты некорыстный ужин, чтоб ребятишек с голоду не заморить, а потом, костеря на чем свет стоит своего суженца-несуженца, гулевана и бродягу, зло косится в окошко, уже по-зимнему чащобно заросшее разлапистыми, бледносиними лопухами.
Ребятишки испуганно таятся в горнице, посиживают за круглым столом, увенчанным керосиновой лампой; скребут перышками в тетрадях, словно мышка в подполье шебаршит; учат уроки, занемев в натужном ожидании пурги, нервно вздрагивая после каждого молодухиного проклятья на браткину беспутую голову, — вот сейчас и за них возьмется; открывают учебники, шарят невидящими глазами по буквицами — чернизинам, что на ниточку нанизаны, но читаное не цепляется к обессилевшей от страха памяти, да и сами строчечки плывут перед глазами, а то и мутнеют, растекаются в слезах, капающих на книжные листы.
— Опять, идол, загулял! — разоряется молодуха на кухне. — Да, поди, еще и по бабам таскается, — Фая припомнила, как однажды Илья зарился в клубе на веселую деваху. — Не коровью он породу улучшает… конский врач… а бабью. Бабы тут все племенные… Тьфу, пропасти на него нету!.. — она сплевывает в замороженное окошко и, присев к столу, кричит в горницу: — Танька, Ванька! Идите-ка сюда.
Торчат ребятишки перед молодухой, опустив долу повинные головушки, мелко подрагивая, словно жалкие осиновые листочки, которые вот-вот осенний ветер-листодер зло сорвет и кинет на стылую земь.
— Ванька!.. Ты почему, лодырь, мало воды наносил?! Говорила же — полную бочку… Тяжело на озеро ходить, остарел. Да?
Ванюшка не ведает: остарел ли, не остарел?., да и как отвечать, если от страха примерз язык к нёбу, а едкие слезы жгут и застилают глаза.
— Я спрашиваю, почему воды мало наносил? Почему?
Ванюшка молчит, едва сдерживаясь, чтобы не разреветься в голос.
— И дров мало наколол, и куричью стайку путем не вычистил. Все делаешь спустя рукава… Опять на озере пробегал, на коньках прокатался? Отвечай, охламон? Воды в рот набрал?
И так она пытает парнишку с полчаса, потом хватает за ухо и, уже плачущего, тащит в горницу, где и пихает в угол.
— Всю ночь у меня будешь в углу торчать. Извадила вас мать, избаловала. А тут еще брат, пьянь подзаборная, поважает. Но ничего, я вас быстро выучу, вы у меня по одной половице будете ходить.
Возвращается в кухню, опять садится за стол, начинает пытать Таньку: почему курям мало зерна дала?., почему пол путем не промыла, грязь по углам развезла?., и вскоре ее, уже ревущую в голос, волочит в горницу и ставит в другой угол.
— И чтоб не реветь у меня, ясно! — грозно велит ребятишкам, и те, глотая слезы, чуть слышно всхлипывая, замирают в углах. — Будете реветь, на мороз выпру. Идите, своего брата гулящего ищите… А пока постойте. Вот как прощения попросите, тогда посмотрим. Может, и спать ляжете.
Ванюшка набирается ума-разума в углу под Марксом, Танька — под Энгельсом; портреты в дубовых рамах, под стеклом отец, бывший до тюремной отсидки партийцем, приволок из погорелой избы-читальни, когда средь бела дня красный петух заплескал крылами на кровле из ветхого дранья. Пожар залили водой, но все у начальства не доходили руки, и долго, как бельмо в глазу, чернела изба-читальня, беспризорно, слепошаро зияя выбитыми окнами; рылись там сельские книгочеи, унося путние книги, ша-рилась ребятня, выбирая книжки с картинками, а отец, чтоб добру не пропадать, прибрал к рукам два портрета и повесил в горнице. Мать смутно догадывалась, что за деды там намалеваны, — «Вроде заместо святых у партийцев…», и, чтя совецку власть, умиляясь ученой и сытой благообразностью бородачей, после каждой бе-лёнки вешала в горнице Маркса и Энгельса, а на кухне — отсулен-ные матушкой образа. Между прочим, когда уполномоченные по скотским налогам переписывали в горнице краснобаевскую животину, то, почтительно взглядывая на портреты, другой раз и не пытали насчет припрятанных бычков и телочек.
Ознакомительная версия.