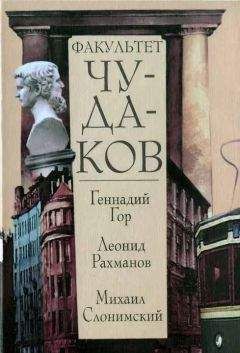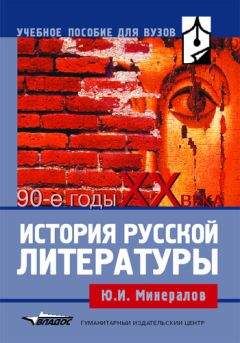Бульвар, прямой и заплеванный как скамейка, упирается в проспект. Проспект гудит. Проспект театрален. Трамвайные провода вспыхивают как магний. Бульвар пуст. На скамейке сидят Крапивин и Замирайлов.
— Где вы пропадали? Что вы делали?
— Учился.
— Как учились? — Крапивин вскакивает с места. — Какое вы имеете право! Как вы можете учиться с этим сбродом, с этой шпаной? Современное студенчество! Вы! Вы! Я не могу подыскать, вам сравнение!
— Не затрудняйте себя. Я больше не учусь. Я бросил. Смотрите улицу. Улица живет. Улица реальна. Улице нет до нас дела. Какое дело нам до современного студенчества. Пусть себе учатся.
— Вы им разрешаете?
— Смотрите улицу.
Они видят: торчат деревья, лежит снег, появляется трамвай. Мальчишки катаются на коньках, прицепившись к трамваю. Идет девушка. Она вышла из булочной. Девушка несет булку. Девушка приближается. Булка оказывается коньками. И сразу меняется взгляд на девушку. Она становится красивой, она делается умной, она превращается в гимназистку, во второступенку. Гимназистка идет кататься. Как это прекрасно. Вспоминается прошлое. Озаряется пивная. Женщина ведет мужа. Муж упирается. Он прислонился к фонарю. Он обнимает фонарь. Озарилась аптека. Сверкают банки: розовые, фиолетовые, розовые! Посмеиваются извозчики. Упирается лошадь. За нее заступается дама.
— Теперь нет буржуев. Теперь все равны. А животное не бейте. Не могу видеть.
— Где вы видите, гражданка? — оправдывается извозчик. — Кто бьет животное? Я бью лошадь!
— Улицу, — говорит Крапивин, — по-моему, неправильно называть реалистичной. Она реалистична в беллетристике. На самом деле она не такая. Она, смотрите, слишком обыкновенна. Она натуральна.
К ним идет неизвестный. Он рыжебород. Он шатается. Он в рваной одежде. Садится рядом. Поминутно сплевывает. Оба они приходят к одному выводу: он пьян.
— Вы не комсомольцы будете, — обращается он к ним, — молодые люди?
— Ни в коем случае. А в чем дело?
— Да так. Вижу — сидят молодые люди, думаю — побеседую немножко. Литературу любите?
Крапивин усмехается. Замирайлов думает: «А Крапивин говорит, что улица обыкновенна». Пьяный сидит подбоченясь. По его бороде течет слюна. Он замечателен.
— …Любите, молодые люди?
— Любим.
— Вот и хорошо. Есть о чем побеседовать. Я-то литературу люблю больше, чем бабу. Весь век просидел над книгами.
— Ага, — притворяется Крапивин. — Понимаю. Вы — профессор.
— Я не профессор, — оправдывается оборванец. — Что вы. Я в «Василеостровце» служу, сторож. Вы Александра Сергеевича читали? Хороший поэт был. А Михаила Юрьевича? Вы не филологи случайно?
— Филологи.
— Очень рад. Весьма рад. Надеюсь, с Фаддеем Бенедиктовичем тоже знакомы? — Пьяный гордо выпрямляется и, наклонив голову, поясняет: — С Булгариным. Сенковского, Осипа Ивановича, читывали? Занятный поляк был. И Булгарин тоже полячок. Эх, тридцатые годы, тридцатые годы! Заполонили полячки русскую литературу. Я разумею — в то время. Ну, о Вельтмане, надеюсь, слышали? Запамятовал его имя. Это не поляк. Думаете — еврей? Нет. Православный. Извиняюсь, простите. Ну, так вот об Осипе Ивановиче бароне Брамбеусе.
«А он говорил, что улица обыкновенна, — думает Замирайлов. — Вот они, русские крестьяне: Ломоносов, Кольцов, Григорович».
— О бароне Брамбеусе, — продолжает пьяный. — Знаменитый писатель в свое время был. Николая Васильевича, самого Гоголя, зарезал. Приходит тот к нему, в журнал евонный, «Библиотеку для чтения», приносит повесть. А он — барон Брамбеус — кулаком об стол. «Не хочу, говорит, тебя. Не надо! Печатайся в другом месте!» Вот он какой, барон Брамбеус. А кто его теперь знает? Филологи? Я его знаю. — Пьяный ударяет себя кулаком в грудь. — Ночной сторож кооператива «Василеостровец» № 3. Я его знаю! Я! Вы его письма к Ахматовой читали? Не к теперешней Анне Ахматовой, которая поэтесса. К другой, к Лизавете. Очаровательные письма. Там про Глинку хорошо. Про композитора. Написал Глинка оперу «Руслан и Людмила». Булгарин на него с цепи сорвался. Греч. А Сенковский, барон Брамбеус посадил их на свое место. «Слабохарактерный человек, — пишут они про Булгарина Ахматовой, — слабенькая личность, способная и на подлые и на прекрасные поступки». Как он его! Только я с ним малость не согласен. Булгарин, Фаддей Бенедиктович, тоже в своем роде гениальная личность. Как он про евреев… В «Иване Выжигине» — роман такой — справедливую характеристику дал. Простите молодые люди, извиняюсь, вы не евреи будете?
— Ни в коем случае.
— А, вот как. Евреев я уважаю. За ум люблю эту нацию. Не то! Не за ум. Не то я хотел сказать. За способность. Способность не есть ум. Люблю еврейскую нацию. — Пьяный закуривает. Вспыхивающая папироса освещает его толстые губы, нос, запачканный грязью. Пьяный подмигивает и внезапно заглушает свой голос до шепота. — Евреи и женщины. Дай свободу женщине. Да она забьет любого мужчину. Приспособляемость в ней есть. Упорство. Вот вы студенты. Скажите, кто у вас лучше учится? Евреи и женщины.
— Правильно. — Крапивин вскакивает. — Замечательный вы человек. Он вскакивает — пожать пьяному руку. Рука отсутствует. Крапивин не замечает. Он жмет вместо руки культяпку. Затем он обнаруживает свою ошибку и конфузливо садится на место.
— Поэтому и опасно, — продолжает пьяный, — было давать равноправие и еврею и женщине. В равной игре они всегда выигрывают.
— Правильно.
— Неправильно, — шепчет Замирайлов, — не совсем правильно.
— Не подумайте, молодые люди, что я монархист. Сохрани бог. В день Владимира купил рублевую свечу, поставил в честь вождя. Лев Давыдович Троцкий пользуется моим уважением. Не подумайте, что я монархист. Не подумайте, молодые люди. Вы любите, опять-таки спрашиваю вас, поэзию? Изучаете? А читали ли вы Баркова? Нет? А я читал. В Публичной библиотеке не один стул просидел. А вследствие чего? Порнографией, думаете, интересовался? Нет. Не будьте превратного мнения. Меня интересовало то, что вы называете «идеология», отношение Баркова к Екатерине. Как он толстозадую бабу! Пуще Емельяна Пугачева испортил ей крови. Да.
— Право, — говорит Крапивин, — право. По-настоящему, вы должны бы были быть профессором. Я не верю, что вы сторож. Кто вы?
— Купец первой гильдии Фома Гордеев. Ваш старый знакомый. Читали вы Алексея Максимовича? Это меня вывел. Не изменил даже фамилию. Так прямо и посадил в книгу. Я бывший купец первой гильдии, ныне сторож, лично знаком с Горьким. С давних пор знаком. Случилось это на Волге. А что, не скоро приедет Алексей-то Максимович? Не слышали?
— А не приедет он сюда, гражданин Фома Гордеев. Что ему здесь делать?
— Так-то. — Пьяный икает. — А не хотите ли вы, молодые люди? Ваше отношение к вину? пиву, я хочу сказать, молодые люди.
— И к вину, и к пиву — одинаковое.
— Идемте в пивную, молодые люди. Вас приглашает персонаж. Герой повести всемирно известного писателя. Вас приглашает Фома Гордеев. Фомка… Там в тепле, в электрическом свете утопим тоску в пиве. Верно, молодые люди? Да… В пиве! Как вы относитесь к футуризму? Я знаком и с новейшими течениями. Ваше отношение к футуризму?
— Отрицательное, — отвечает Крапивин.
— Положительное, — лепечет Замирайлов, — и отрицательное.
Они встают, идут по направлению к пивной.
— Помните ли вы звучные стихи господина Крученого?
Пьяный громко сморкается и декламирует:
В тулумбасы бей, бей!
Запороги гей, гей!
Запороги — вороги!
И добавляет:
* * *
Лузин опрокинул портфель. На стол посыпались книги. Книг было много. На столе им не хватало места.
— Ты сломаешь мне стакан, — сказала Зоя. — Зачем столько книг? К докладу?
Комната была — как многие комнаты: две одинаковые кровати стояли рядом, на стене висели Фердинанд Лассаль и мохнатое полотенце, на подоконнике блестел примус. Кроме примуса в комнате были и другие вещи. Например: стаканы, пепельница, щетка, «Огонек», сломанная горелка, два стула. Разумеется, все вещи стояли на своем месте.
— Нет, не к докладу. Эти книги я принес для регулярных занятий.
— Ты? Будешь учиться? Да откуда у тебя время?
Лузин вытянул под столом ноги. Он зевнул.
— Времени теперь у меня сколько угодно. — Он раскрыл одну из книг. В руке у него был только что очиненный карандаш. Новая тетрадь в клеенчатом переплете лежала перед ним. — Я чувствую себя как мальчик. Прямо поразительно. В детстве меня радовал каждый новый карандаш, приобретенный мною. Или красивая бутылочка чернил, непременно фиолетовых. Что может быть приятнее новой, еще не откупоренной бутылочки фиолетовых чернил? Теперь то же самое.
— Я ничего не могу понять. Действительно, ты похож на мальчика. Председатель стипендиальной комиссии, — передразнила она его, — секретарь по студенческим делам… Да тебе не хватит времени для того, чтобы прочесть и двадцати страниц.