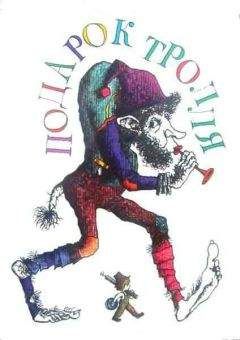Его сочинение "Большая логика" я читал, когда у меня был ревматизм и я сам не мог передвигаться. Это одно из величайших произведений мировой юмористической литературы. Речь там идет об образе жизни понятий, об этих двусмысленных, неустойчивых, безответственных существах; они вечно друг с другом бранятся и всегда на ножах, а вечером как ни в чем не бывало садятся ужинать за один стол. Они и выступают, так сказать, парами, сообща, каждый женат на своей противоположности, они и дела свои обделывают вдвоем, как супружеская чета, то есть ведут вдвоем тяжбы, вдвоем подписывают контракты, вдвоем предпринимают атаки и устраивают налеты, вдвоем пишут книги и даже подходят к присяге - совсем как супружеская чета, которая бесконечно ссорится и ни в чем не может прийти к согласию. Только Порядок что-то выскажет, как его утверждения в тот же миг оспаривает Беспорядок - его неразлучный партнер. Они жить друг без Друга не могут и никогда не могут ужиться.
Калле. В этой книге говорится только о таких понятиях?
Циффель. Понятия, которые люди себе составляют, очень важны. Понятия это рычаги, которыми можно приводить в движение вещи. В книге говорится о том, как добираться до истинных причин протекающих процессов. Иронию, скрытую в каждой вещи, он и называет диалектикой. Как и все великие юмористы, он это преподносит с убийственно серьезным лицом. А вы в какой связи о нем слыхали?
Калле. В связи с политикой.
Циффель. Вот еще один из его анекдотов. Величайшие мятежники считают себя учениками величайшего защитника государственной власти. Кстати, это говорит о том, что у них есть чувство юмора. Человек, лишенный чувства юмора, не может понимать диалектику Гегеля - я никогда еще не встречал такого.
Калле. Нас он очень интересовал. Нам доставались от него одни цитаты. Приходилось вытаскивать его за цитату, как рака - за клешню. Мы интересовались им потому, что нам частенько доводилось сталкиваться с такой вот скрытой иронией вещей, как вы это определили. Например, такое смешное превращение случилось с теми из нас, представителями народа, кто, попав в правительство, оказывался уже вовсе не представителем народа, а представителем правительства. Я впервые услышал этот термин в тысяча девятьсот восемнадцатом году. Тогда власть Людендорфа была крепкой, как никогда, он во все совал нос, дисциплина была железной, все было предусмотрено на тысячу лет вперед, а не прошло и нескольких дней, как он нацепил синие очки и перешел границу - он, а не та новая армия, которую он намеревался создать. Или возьмите крестьянина. Когда мы вели агитацию в деревне, он был против нас, кричал, что мы хотим все у него отнять, а потом банк и помещик все у него отняли. Один такой крестьянин заявил мне: "Вот кто самые главные коммунисты!" Это ли не ирония?
Циффель. Лучшая школа диалектики - эмиграция. Беженцы - тончайшие диалектики. Беженцами они стали благодаря переменам, и ничем другим, кроме перемен, не интересуются. По самым незначительным признакам они заключают о наступлении самых крупных событий - конечно, в том случае, если они соображают. Когда их противники побеждают, они подсчитывают, во что эта победа обошлась, и у них острый глаз на противоречия. Да здравствует диалектика!
Не опасайся они привлечь внимание всего погребка, Циффель и Калле ни при каких обстоятельствах не остались бы сидеть - они бы торжественно встали и чокнулись. При данных же обстоятельствах они поднялись только мысленно.
Вскоре они попрощались и разошлись - каждый в свою сторону.
12
Перевод Ю. Афонькина.
Швеция, или любовь к ближнему. Тяжелый случай астмы
Циффель. Нацисты говорят: "Общественная польза выше личной". Это же коммунизм. Я на них маме пожалуюсь.
Калле. Вы опять говорите не то, что думаете, - просто, чтоб меня подзадорить. Этот лозунг означает только, что государство выше подданного, а государство - это нацисты, и точка. Государство выражает всеобщие интересы всего общества, а именно: облагает людей налогами, предписывает, что делать и чего не делать, мешает им нормально общаться друг с другом и гонит их на войну.
Циффель. Неплохо сказано, хотя и преувеличено. Если не преувеличивать, можно, пожалуй, согласиться с тем, что этот лозунг создает непреодолимое противоречие между пользой для всех и пользой для одного. Именно за это вы его, как видно, и презираете. Я тоже склонен думать, что в стране, где принципиально хулят эгоизм, что-то неладно.
Калле. Демократия, знакомая нам с вами по опыту...
Циффель. "Знакомая нам по опыту" - это уже лишнее.
Калле. Ладно. Так вот, демократия, как обычно говорят, означает равновесие между эгоизмом тех, кто что-то имеет, и эгоизмом тех, кто ничего не имеет. Это явная бессмыслица. Упрекать капиталиста в эгоизме значит упрекать его в том, что он капиталист. Только он и получает пользу, потому что использует других. Рабочие ведь не могут извлекать для себя пользу из капиталиста. Лозунг "Общественная польза выше личной" следовало бы изложить так: "Стремясь к пользе для себя, человек не должен использовать для этого другого человека или всех людей; наоборот, все люди должны использовать..." - А теперь потрудитесь сказать, что они должны использовать?
Циффель. Да вы, оказывается, логистик и семантик. Берегитесь, это опасно. Будет вполне достаточно, если вы скажете: общество должно быть устроено так, чтобы то, что идет на пользу одному, шло на пользу всем. Тогда не нужно будет больше ругать эгоизм, его можно будет даже публично хвалить и поощрять.
Калле. А это невозможно до тех пор, пока ради пользы одного приходится мириться с лишениями многих других или даже обрекать их на лишения.
Циффель. После Дании я побывал в Швеции. Это страна, в которой весьма развита любовь к человеку, а также любовь к своему делу в высоком смысле этого слова. Самый любопытный пример любви к своему делу я наблюдал там на одном человеке, который не был шведом. Это не опровергает мою теорию, так как его любовь к своему делу особенно ярко проявилась и прошла серьезное испытание именно в Швеции. История эта случилась с одним естествоиспытателем, и я попросил его записать для меня вкратце самое основное. Если хотите, я прочту вам эти записки. (Читает.) "С помощью некоторых скандинавских ученых, которые в свое время бывали у меня в институте или публиковали мои работы в своих журналах, я получил разрешение на въезд. Мне поставили одно только условие: находясь в Скандинавии, я ни под каким видом не должен заниматься научной или какой-либо иной деятельностью. Я подписал это обязательство со вздохом, огорченный тем, что не смогу уже, как бывало, быть полезным своим друзьям. Однако было ясно, что если я приобрел этих друзей благодаря своей научной работе, то сохранить их дружбу я смогу, только отказавшись от научной работы. Дело в том, что хотя там физиков было не так уж много для такой науки, как физика, - зато институтов для физиков было еще того меньше. А жить-то надо.
Мне было очень неприятно, что при сложившихся обстоятельствах я не могу зарабатывать себе на хлеб и всецело завишу от великодушия моих коллег. В награду за мое безделье им приходилось выхлопатывать для меня пособия, они делали что могли, и я не голодал.
На мою беду вскоре после приезда я тяжело заболел. У меня началась астма, замучившая меня до того, что вскоре наступило истощение и резкий упадок сил. Исхудав так, что остались кожа да кости, и с трудом передвигая ноги, я таскался по врачам, но ни один не мог облегчить мои страдания.
Когда болезнь окончательно подточила мои силы, я услышал, что в городе находится некогда знаменитый врач, открывший и разработавший новый, очень эффективный способ лечения астмы. К тому же он был мой соотечественник. Я приполз 'К нему и описал, насколько это позволяли сотрясавшие меня приступы кашля, мои мучения.
Он ютился в крошечной комнатушке с окном во двор, и стул, на который я в изнеможении упал, был единственным, так что хозяину пришлось стоять. Опершись на колченогий комод, на котором стояла тарелка с остатками скудной трапезы, доктор - я оторвал его от ужина - принялся меня расспрашивать.
Его вопросы повергли меня в изумление. Они относились не к моей болезни - как следовало бы ожидать, - а совсем к другому: к моим связям и знакомствам, взглядам и увлечениям и т. д. Побеседовав со мной около четверти часа, он вдруг оборвал разговор, улыбнулся и открыл мне сам, чего он добивается, обследуя больного столь необычным способом.
Он сказал, что его интересует не состояние моего здоровья, а мой характер; ради того, чтобы получить разрешение на въезд, ему пришлось, как и мне, подписать обязательство не заниматься профессиональной деятельностью. Взявшись лечить меня, он рисковал подвергнуться высылке. Прежде чем приступить к осмотру, ему надо было удостовериться, что я человек порядочный и не разболтаю, что он оказал мне врачебную помощь.