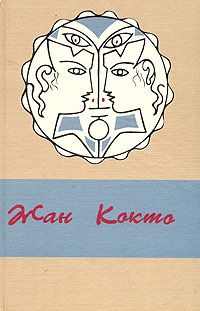Он решил написать. Упал первый камень, и по спокойной глади побежали круги; следующий вызовет другие последствия, предугадать которые он не может, но переложит решение на них. Его письмо (с пневматической почтой) ста
нет добычей случая. Оно попадет или в общий круг, или в руки одной Агаты -- от этого и будет зависеть его действие.
Он скроет свое смятение, до завтра будет притворяться, что дуется, чем и воспользуется, чтоб написать письмо и никому не показываться с раскрасневшимся лицом.
Эта тактика притупила внимание Элизабет и обескуражила бедняжку Агату. Она вообразила, что Поль что-то против нее имеет и решил ее избегать. На следующий день она сказалась больной, осталась в постели и обедала у себя в комнате.
Угрюмо пообедав наедине с Жераром, Элизабет послала его к Полю, велев постараться войти, взять его в оборот и выяснить, за что он на них дуется, между тем как она пойдет врачевать простуду Агаты.
Она застала девушку в слезах, лежащей ничком, уткнувшись в подушку. Элизабет была бледна. Разлад в доме пробуждал к жизни спящие глубины ее души. Она чуяла тайну и хотела знать, какую. Любопытство ее уже не ведало никаких границ. Она приголубила страдалицу, убаюкала, вызвала на признания.
-- Я его люблю, обожаю, а он меня презирает, -- рыдала Агата.
Значит, любовь. Элизабет улыбнулась.
-- Вот дурочка, -- воскликнула она, поняв так, что Агата имеет в виду Жерара, -- интересно знать, с чего бы ему тебя презирать? Он что, тебе это говорил? Нет? Ну вот! Он, дурак, радоваться должен! Раз ты его любишь, надо, чтоб он на тебе женился.
Агата растаяла, расслабилась под анестезией этой сестринской простоты, перед немыслимым разрешением, которое Элизабет предлагала, вместо того чтоб посмеяться над ней.
Лиз.. -- лепетала она, склонясь на плечо юной вдовы, -- Лиз, ты такая добрая, такая добрая... но он меня не любит.
Ты уверена?
Этого не может быть...
-- Знаешь, ведь Жерар -- мальчик робкий...
Она все еще ласкала, баюкала на мокром от слез плече, как вдруг Агата вскинула голову:
Но... Лиз.. речь не про Жерара. Я говорю о Поле!
Элизабет встала с кровати. Агата бормотала:
Прости меня... прости...
Элизабет с остановившимся взглядом, безвольно повисшими руками чувствовала, что тонет, стоя на месте, как в материнской комнате, и подобно тому, как некогда увидела вместо матери чужую мертвую женщину, она смотрела на Агату и видела вместо этой заплаканной девочки сумрачную Атали, похитительницу, прокравшуюся в дом.
Ей надо было знать все; она овладела собой. Снова присела на край кровати.
-- Поль! С ума сойти. Никогда бы не подумала...
Она старалась говорить поласковей.
-- Вот это сюрприз! До чего занятно. С ума сойти. Ну,
расскажи, расскажи мне скорее.
И вновь она обнимала, баюкала, выманивала признания, хитро направляла и выводила на свет стадо сокровенных чувств.
Агата утирала слезы, сморкалась, позволяла себя убаюкать, уговорить. Она излила душу и дала волю признаниям, доверила Элизабет то, в чем и себе не решилась бы признаться.
Элизабет слушала живописание этой смиренной, возвышенной любви, и девочка, исповедующаяся в плечо сестры Поля, была бы поражена, взгляни она поверх руки, машинально гладившей ее волосы, на безжалостное лицо судьи.
Элизабет встала. Она улыбалась.
-- Послушай, -- сказала она, -- ты отдохни и успокойся. Все очень просто, я поговорю с Полем.
Агата испуганно привскочила.
Нет, нет, пусть он ничего не знает! Умоляю тебя! Лиз, Лиз, не говори ему...
Перестань, детка. Ты любишь Поля. Если и Поль тебя любит, так чего же лучше. Не бойся, я тебя не выдам. Расспрошу его незаметно и все узнаю. Доверься мне и спи; только не выходи из комнаты.
Элизабет спустилась по лестнице. На ней был купальный халат, завязанный вместо пояса галстуком. Полы болтались и путались в ногах. Но она шла автоматически, движимая привычным механизмом, только гул его и слыша. Этот механизм управлял ею, не давая полам халата попадать под сандалии, командуя повернуть направо, налево, открыть дверь, закрыть. Она чувствовала себя автоматом, запрограммированным на определенное количество действий, которые он должен выполнить, даже если по дороге его разнесет. Сердце ее стучало, как топор, в ушах звенело, в голове не было ни единой мысли, соответствующей ее целеустремленной поступи. Сны дают некоторое представление о таких тяжелых шагах, приближающихся и мыслящих, о походке легче полета, о сочетании этой тяжести статуи и невесомости пловца под водой.
Элизабет, грузная, легкая, летящая, как если бы ее халат клубился вокруг щиколоток завихрениями, какие примитивисты пририсовывают сверхъестественным персонажам, двигалась по коридорам с абсолютно пустой головой. В голове этой был только неясный гул, а в груди -- мерные удары топора.
Раз начав это движение, молодая женщина уже не могла остановиться. Гений детской вселился в нее, стал ею, как всякий гений, овладевающий человеком, дельцу диктуя распоряжения, предотвращающие банкротство, моряку -- действия, спасающие корабль, преступнику -- слова, обеспечивающие алиби.
Это движение привело ее к лесенке, ведущей в пустынную залу. Оттуда выходил Жерар.
Я как раз шел к тебе, -- сказал он. -- Поль какой-то странный. Послал меня за тобой. Как там больная?
У нее мигрень, просит, чтоб не мешали ей спать.
Я собирался к ней...
Не ходи. Она отдыхает. Ступай в мою комнату. Подожди меня там, пока я навешу Поля.
Уверенная в пассивном повиновении Жерара, Элизабет вошла. Прежняя Элизабет проснулась на секунду, залюбовалась фантастической игрой лжелуны, лжеснега, бликами линолеума, затерянной мебелью, отражавшейся в нем, и в центре -- китайским городом, оградой святилища, высокими хрупкими стенами, хранящими в себе детскую.
Она обогнула их, отодвинула одну створку и обнаружила Поля сидящим на полу, головой и плечами откинувшись на кровать; он плакал. Его слезы были уже не теми, что он проливал об утраченной дружбе, не походили они и на слезы Агаты. Они набухали между ресницами, росли, перепевались через край и стекали с перерывом, обходным путем добираясь до приоткрытого рта, где задерживались и дальше текли как обычные слезы.
Поль ожидал бурной реакции на письмо. Агата не могла его не получить. Этот нулевой результат, это ожидание убивали его. Зароки, которые он себе давал -- осторожность, молчание -- улетучились. Он хотел знать, знать во что бы то ни стало. Неизвестность становилась невыносимой. Элизабет пришла от Агаты: он приступил к ней с расспросами. -- Какое письмо?
Элизабет, действуй она по собственному разумению, конечно, завела бы свару, и оскорбления быстро отвлекли бы ее и предупредили Поля, что надо прикусить язык, отругиваться, кричать погромче. Но перед судом, и судом любящим, он признался. Признался в своем открытии, в своей нерешительности, в том, что послал письмо, и умолял сестру сказать, действительно ли Агата его отвергает.
На эти удары, падающие один за другим, автомат отзывался лишь щелчками переключателя, меняющего программы. Элизабет испугалась письма. Что, если Агата знала и морочила ее? Что, если забыла, что получила какое-то письмо, а в эту самую минуту, узнав почерк, распечатывает его? Что, если она сейчас войдет?
-- Минутку, родной мой, -- сказала она. -- Подожди меня, у меня к тебе серьезный разговор. Агата ничего мне не говорила про твое письмо. Письмо не могло взять и улететь. Оно должно найтись. Я сейчас вернусь.
Она ретировалась и, вспомнив жалобы Агаты, прикинула, не могло ли письмо остаться в вестибюле. Из дома никто не выходил. Жерар почту не просматривал Если письмо положили внизу, возможно, оно все еще там.
Оно было там. Желтый конверт, мятый, покоробленный, лежал на подносе, подражая осеннему листу.
Она включила свет. Почерк был Поля -- крупный почерк нерадивого школьника; но адресовано письмо было ему самому. Полю от Поля! Элизабет разорвала конверт.
Этому дому почтовая бумага была неведома: писали на чем придется. Она развернула тетрадный листок в клетку, бумагу анонимок.
"Агата, не обижайся, я тебя люблю. Я был дураком. Я думал, что ты ко мне плохо относишься. Я понял, что люблю тебя, и если ты меня не любишь, я умру. На коленях прошу тебя ответить. Мне очень плохо. Я все время буду в галерее".
Элизабет прикусила кончик языка, пожала плечами. При том же адресе Поль, волнуясь и спеша, написал на конверте собственное имя. Его повадки она хорошо знала. Такое неисправимо.
Допустим, письмо, вместо того чтобы произрастать в вестибюле, вернулось бы, как серсо, Полю в руки: это могло бы пришибить его до того, что он изорвал бы листок и утратил всякую надежду. Она избавит брата от досадных последствий его рассеянности. Она отправилась в туалет при вестибюле, порвала письмо и уничтожила следы.
Вернувшись к несчастному, она рассказала, что заходила к Агате, что Агата спит, а письмо валяется на комоде: желтый конверт, из которого высовывается листок кухонной бумаги. Она узнала конверт, потому что видела пачку таких же у Поля на столе.