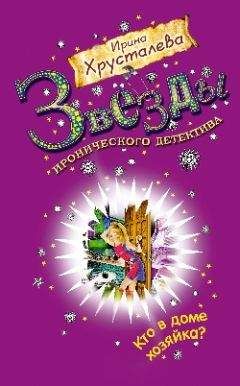Дальше — про бытовые условия. Отопление печное, дрова — осина. Леке обещали квартиру в Ленинграде, но когда это будет... Денег на жизнь не хватает...
Про деньги — это тоже было новое. Раньше о деньгах Валя не говорила. И еще — про вещи. Она долго описывала какую-то кофточку с рукавами реглан, ну просто взбитые сливки, которую хотела купить, но не купила, денег не было. Эх, жизнь! Но что поделаешь, не плакать же? Тут она завела пластинку, и они с Гарусовым пошли танцевать, здесь же, возле стола. Смирная девочка, с тем же пузырем у розовых губ, разглядывала их, словно из ложи. Вдруг Валя спохватилась, что Светланку давно пора кормить («Вот ведь какая, никогда не попросит!»), и сказала Гарусову: «Отвернись!» Он вспотел, отвернулся и всей спиной чувствовал то великое, что за ней происходило.
Девочка уснула у груди, и Гарусов сам отнес ее в кроватку, держа в руке, как в ложке, маленькую голову и чувствуя себя мужчиной, мужем, отцом.
* * *
Милое молчание кончилось, и Валя сказала:
— Кстати, Толяша, у меня к тебе дело. Знаешь, зачем я тебя вызвала?
— Нет.
— Дело в том, что я поступила на заочный.
— Ты? Ну, молодец!
— Вообрази. Решилась. Теперь все учатся.
— По какой же специальности?
— Инженер-теплотехник. Да-да, не смейся. Конечно, я бы предпочла литературный, но лучше журавль в небе или наоборот, не помню что.
— Ну, и как с учебой?
— Ничего. Только вот задание по высшей математике... Вспомнила про тебя. Ты же великий математик. Ты ведь мне поможешь, а?
— Что за вопрос!
Валя поискала и принесла задание, завалявшееся, видно, в кухонном ящике — от него пахло ванилью. Задачи были не особенно трудные, и Гарусов быстро в них разобрался.
— Вот, послушай, Валя. Здесь просто надо продифференцировать числитель, потом знаменатель...
— Нет-нет. Ты мне лучше не объясняй. Ты просто сделай, напиши, а я потом сама разберусь. У меня еще пеленки не стираны.
Она убежала на кухню, а Гарусов без нее решил все задачи и переписал каждое решение своим четким почерком. Когда он кончил, Валя поцеловала его и сказала:
— Толяша, ты гений.
— Пойдешь за меня замуж? — спросил Гарусов.
Она засмеялась.
— Какой скорый! Одно задание сделал — и сразу замуж.
Это была шутка. Но Гарусов не шутил.
— Я все для тебя сделаю. Ты же знаешь.
— Нет-нет, Толяша. Не торопись. Надо уметь ждать. Ведь я жду, почему ты не можешь? Мы с тобой будем вместе, я в этом уверена, но не сейчас.
— Почему?
— Я слишком серьезно отношусь к браку. Брак — это институт. И потом, я не уверена, что ты сможешь заменить отца моему ребенку. Отец есть отец, хотя бы и болельщик футбола.
— Я...
— И для меня теперь самое главное — учеба. И еще, забыла сказать, я не хочу разрушать твою семью.
Гарусов помрачнел и спросил:
— А если бы я сюда перевелся?
Валя даже в ладоши захлопала:
— Ой, это было бы замечательно! И для моей учебы, и вообще...
За стеной раздались шаги, кто-то шаркал, снимал калоши и бубнил. Валя сразу съежилась и шепнула:
— Свекровь...
Распахнулась дверь, и вошла свекровь — стройная, мстительная старуха с двумя рядами жемчужных зубов. Валя метнулась, как цыпленок перед ястребом:
— Мама, познакомьтесь, это мой школьный товарищ, Толя Гарусов.
— Очень приятно, — сказала свекровь с присвистом, и Гарусову стало страшно за Валю. «Ничего, любимая, я тебе помогу», — подумал он.
Разговор не клеился. Гарусов посидел немного и стал прощаться. Валя вышла проводить его в сени и вдруг вскинула ему на шею тонкие руки, прижалась к нему и заплакала. Этот поцелуй был совсем новый — искренний, мокрый, беспомощный.
Гарусов ехал назад в Воронеж ночным поездом, счастливый и смятенный, и колеса стучали ему: «Люблю». Он увозил с собой новый поцелуй и новую цель.
Новая цель Гарусова была — перевестись в Ленинград. Он начал хлопотать о переводе на другой же день по приезде. Это оказалось неожиданно трудно. Только подумать, он, коренной ленинградец, не мог попасть в Ленинград! Все упиралось в прописку. Работы было сколько угодно, но без прописки никуда принять не могли. С другой стороны, чтобы прописаться, надо было иметь справку с места работы. Кошки-мышки.
Все это Гарусов узнал из разных источников, где наводил справки. Отвечали все по-разному, но у всех одинаково выходило, что дело плохо. Оставался один просвет — аспирантура, куда принимали без прописки и давали временную. Гарусов долго сопротивлялся, но, припертый к стенке, принял решение: пойти в науку. Он написал письмо Марине Борисовне Крицкой, просил разузнать, нет ли в институте аспирантского места и может ли такой, как он, на него рассчитывать. Он честно признавался, что ни особых способностей, ни даже особого призвания к науке не имеет, но если его примут, постарается работать не хуже других. «А переехать в Ленинград мне нужно по личным причинам. В чем они состоят, пока объяснить не могу. Пишу это для того, чтобы не обманывать ваше доверие. Очень прошу в просьбе моей не отказать. Гарусов Анатолий».
Марина Борисовна прочла письмо, загорелась гарусовским делом и тотчас же своим танцующим шагом отправилась в ректорат. С аспирантскими вакансиями давно уже было туго. Ни одной для кафедры автоматики не было, а другие кафедры зубами держались за свои. Марина Борисовна решила действовать измором. Она ходила к ректору каждый день, вела подкопы и через проректора, и через профсоюзную организацию, и через завхоза. В ее восторженных характеристиках Гарусов все вырастал. Сначала он был просто способным студентом, потом — многообещающим молодым ученым, а кончил чуть ли не отцом кибернетики, Норбертом Винером. Ничто не помогало. Марина Борисовна изменила тактику, стала упирать на пролетарское происхождение Гарусова, на его беспризорное детство. Ректор и на это не поддавался: «Сколько я понимаю, ваш Гарусов воспитывался в детском доме, а в наших детских домах дети не беспризорны, так-с». Марина Борисовна не складывала оружия, пока, наконец, ректор не сдался. Кажется, его окончательно добили брови Марины Борисовны, которые она, ради важного разговора, нарисовала в палец толщиной и гораздо выше того места, где полагается быть бровям. Одним словом, ректор дал согласие, и Марина Борисовна проследовала на кафедру со своей вакансией, как гончая с трепещущим зайцем во рту.
Теперь надо было найти Гарусову научного руководителя. Сама Марина Борисовна, как не имеющая степени, формально руководить не могла. Ее выбор пал на заведующего кафедрой, профессора Темина, который успел уже стать членом-корреспондентом и от этого совсем изнемог.
— Гарусов? Это какой такой Гарусов? — спросил носовым голосом член-корреспондент.
— Неужели не помните? У нас на кафедре работал. Такой маленький, глаза как ленинградские сумерки...
— Что-то не припоминаю... Ну, уж и сумерки. Вечно вы, Марина Борисовна, преувеличиваете... Гарусов. Помню, помню... Довольно бездарный студент.
— Бездарный?!
Марина Борисовна зажглась и воспела хвалу Гарусову пышным языком газетного некролога. Не была забыта и скромная гарусовская конструкция на стенде постоянной выставки, которая в трактовке Марины Борисовны выглядела как эпохальное изобретение. Закончила она так:
— Этот «бездарный», как вы говорите, студент прославит ваше имя, Роман Романович.
Стоп. Дело было чуть не испорчено. По мыслям Романа Романовича, его имя было уже прославлено. Марина Борисовна спешно поправилась:
— Еще больше прославит ваше имя.
— Поймите, Марина Борисовна, у меня уже два аспиранта и камни в почках. Откуда я возьму время на третьего?
— А не надо времени! Этот Гарусов, я его знаю, он очень самостоятельный, все делает наоборот, так что им лучше не руководить. Фактически придется только записывать нагрузку. А если все-таки надо будет, я Гарусову помогу...
При слове «нагрузка» Роман Романович дрогнул. У него уже несколько лет был «хронический недогруз», до которого могла докопаться какая-нибудь комиссия. Он еще покобенился и согласился. Судьба Гарусова была решена. Марина Борисовна, плача от радости, послала ему торжествующее письмо, в котором щедро живописала его блестящее научное будущее. Прочитав это письмо, совестливый Гарусов чуть было не отказался от аспирантуры, но любовь превозмогла, и он начал готовиться к экзаменам. До них оставалось еще месяца два.
— Какая все-таки, Марфа Даниловна, у научных сотрудников работа тяжелая! — жаловалась Зоя своей подруге. — Придет, покушает и сядет, ночью лампу прикроет и опять сидит, конспектирует. А если его мозгами кормить, как вы думаете, не поможет?
— И-и, дева, — тянула Марфа Даниловна, — у каждого своя ноша, кто руками трудится, кто ногами, а кто и сидячим местом. Всякому своя сопля солона. Вот знала я одного, в театре осветителя. Тоже тяжело работал. Придет домой — пот с него дождиком так и льет, так и льет. Он — голову под кран, а жене кричит, чтобы горчичники на пятки ему ставить. Все тяжело, милая, все трудно...