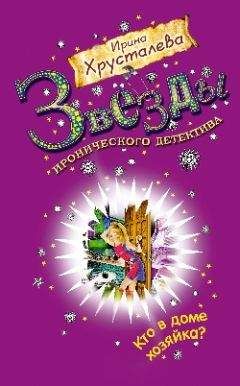— Толя, а я? Вы обо мне не подумали! Правда, мы за последние годы мало виделись...
— Марина Борисовна, у вас ведь много учеников.
— Но только один сын.
Гарусов помолчал.
— Я... Я вам очень благодарен...
— Какая благодарность? Все это не то, не то...
— Вы меня извините, Марина Борисовна, я должен идти. А долг я вам верну при первой возможности.
— Бог с вами, какой долг? Я и забыла совсем. А когда вы едете?
— Сегодня ночью.
— Боже мой! А я вас задерживаю. Вам некогда, надо собираться. Идите-идите, я вас провожу, осторожнее, в передней темно, лампочка перегорела, никто не купит, кроме меня, а я забываю...
Она бормотала без устали как заводная. Гарусов ощупью отпер дверь, выбрался на площадку. Она стояла на пороге, положив голову себе на плечо.
— И вот всегда у меня так, всегда так...
Косые слезы бежали у нее по щекам. Гарусов медлил.
— Ну, чего вы стоите? Идите, идите!
Она махнула рукой. Гарусов ушел.
* * *
Теперь ему надо было зайти к Федору Жбанову. По слухам, Федор был в запое, но все-таки попрощаться надо было.
Когда Гарусов вошел, Жбанов лежал ничком на кровати, подняв толстые ноги на деревянную лакированную спинку. Он нехотя поднял с подушки вялое, несвежее лицо. За последний год Жбанов отрастил усы, и это сильно его не красило.
— А, святитель-великомученик, — сказал он сквозь спутанные усы, — явился-таки, приполз! А что у тебя с башкой? Ну-ка, повернись!
Жбанов захохотал.
— Ну и фигура! Дон-Жуан! Казанова! Покоритель женских сердец!
Гарусов молчал. Федор Жбанов неожиданно гибким движением перекинул на пол толстые ноги в шерстяных носках и бросил в Гарусова подушкой:
— Тьфу на тебя. Не хочу даже и разговаривать с таким идиотом.
Гарусов направился к двери.
— Постой! — загремел Жбанов.
Гарусов остановился.
— Ты не уйдешь, пока не объяснишь всю эту чертовню. Куда ты едешь? Зачем?
— Я тебе уже объяснял, — смиренно отвечал Гарусов. — Еду, чтобы деньги заработать. Внести за квартиру.
— Черта с два! Нет, брат, меня не проведешь! Тут другая должна быть причина.
Гарусов молчал.
— Ничего не понимаю! — бушевал Жбанов. — Нет, постой, кажется, начинаю понимать... Ага! Понимаю! Как увидел твою дурацкую стриженую башку, так и понял. Знаешь, кто ты? Монах. Да, да. Монах по призванию. Для таких, как ты, не хватает советских монастырей.
— Что за чушь, — тоскливо сказал Гарусов. — Монастыри какие-то... Придумаешь тоже. Пьян ты, Федор.
— А что? Я пьян, конечно, но рассуждаю вполне здраво. Таким, как ты, мало обычной жизни, нормальной работы. Они хотят жертвоприносить. Истязать свою плоть. Таким именно нужны монастыри, разумеется, не церковные, а гражданские... Оттуда, например, мы будем черпать санитаров, золотарей... А что? Мысль!
— Оставь, Федор, — отмахнулся Гарусов. — Без тебя тошно.
— Ха! — закричал Жбанов. — Это хорошо, что тошно! Значит, в тебе разум не совсем еще погас. Может, еще одумаешься, совесть в тебе проснется. Скажет: «Толя, а Толя, науку-то свою бросил, не стыдно?»
— Нет, не стыдно. Все равно ученого из меня не получится.
— Эх, мне бы твою усидчивость...
— Мне бы твой талант.
— ...я свой талант, — выругался Жбанов. — Не вышло из меня ни черта и уже не выйдет.
— Если бы я был глуп, я сказал бы тебе: не пей. Не пей, Федя
— Полечиться, что ли, принудительно? — задумчиво спросил Федор. — Там, говорят, такое пойло дают, что после него от любой жидкости, даже от квасу, с души воротит.
— Вот как и меня, — тихо сказал Гарусов.
— Что ты там такое бормочешь?
— Ничего, это я так. Прощай, Федор. Спасибо тебе за все. Сам знаешь, за что. Я Зое сказал: если что, пусть к тебе обращается. Можно?
— Спрашиваешь тоже.
Жбанов встал с кровати и обнял Гарусова. Лицо Гарусова пришлось ему где-то под мышкой, и, чтобы лучше разглядеть это лицо, Жбанов поднял его за подбородок. Серые глаза Гарусова смотрели невесело, но твердо.
— Ну, прощай, Толя. Не поминай лихом. Любил я тебя, сукиного сына.
* * *
Гарусов пошел прощаться в свое последнее место — домой. У самого дома он встретил Ниночку. Она шла, тринадцатилетняя, худенькая, сплошные ноги, шла — вот так пигалица! — с мальчишкой и бессовестно с ним кокетничала. От этого коса усердно моталась у нее по спине. Гарусов ее окликнул, она остановилась, мальчишка прошел дальше.
— Ниночка, я хочу попрощаться.
— Опять едешь? — неприязненно спросила она и закусила конец косы.
— Еду.
— Надолго или совсем?
— Там видно будет.
— Ну, счастливого пути, — она взмахнула косой и побежала догонять своего кавалера, который стоял и нетерпеливо копал землю бутсой.
* * *
Гарусов поднялся по лестнице. Зоя уже ждала его у дверей — должно быть, в окно.увидела, как он подходил. Бледная, но спокойная. Он посмотрел ей в лицо и обмер: оказывается, за эти годы щеки у Зои стали треугольными. Он опустил глаза на ее клеенчатый, цветочками, фартук.
— Когда? — спросила Зоя.
— Сегодня. Ноль тридцать.
— Побудешь или как?
— Не могу, Зоя, надо еще за вещами заехать...
— Что ж, поезжай, раз надо. Посидим с тобой, что ли, на дорогу. Так, кажется, по-русски-то полагается.
— Не знаю я, Зоя, как полагается.
Сели. Гарусов сказал с усилием:
— Прости, Зоя, что испортил тебе жизнь. Не надо мне было на тебе жениться.
— Что ты, Толенька, как ты можешь так говорить? Я с тобой очень даже счастлива была и навсегда тебе благодарна.
— Это я тебе должен быть благодарен.
Помолчали. Зоя спросила:
— Может, все-таки поехать мне с тобой, Толенька? Ты не думай, я на жену не претендую, веди свою личную жизнь какую хочешь. Я просто помочь тебе хочу. Прямо душа болит за тебя, как ты там будешь, один как иголка.
— Не надо, Зоя. Я именно хочу посмотреть, чего я стою один.
— Смотри, тебе виднее.
Зоя встала. Гарусов тоже встал. Тут словно что-то ее толкнуло, и она протянула ему обе руки, сложив их ладонями кверху, лодочкой. В эту лодочку Гарусов, прощаясь, спрятал свое лицо.