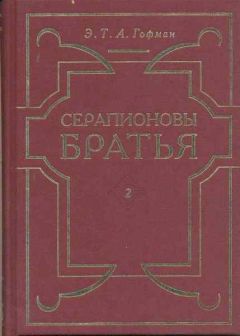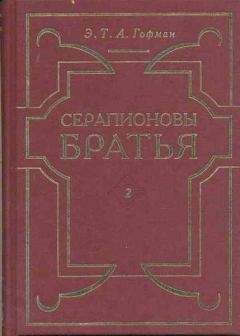Тогда придумали другое средство заставить короля согласиться на просьбу Аржансона.
В комнатах госпожи де Ментенон, где король часто проводил время до поздней ночи, работая со своими министрами, было передано ему стихотворение, написанное от имени запуганных любовников, жаловавшихся королю на то, что они не могут сделать безопасно ни одного дорогого подарка своим возлюбленным. Как ни честно и славно, говорилось в стихотворении, пролить кровь за ту, которую любишь, на поле чести, но совершенно иное - погибать от руки подлых, тайных убийц, не имея даже возможности защититься. Король Людовик, который, как звезда, покровительствует всему, что касается любви, обязан рассеять своим светом мрачную ночь, под покровом которой совершалось преступление, и разрушить козни злодеев. Божественный герой, победивший своих врагов, сумеет обратить свой меч и в другую сторону и, подобно Геркулесу, поборовшему Лернейскую гидру, или Тезею, убившему Минотавра, сразит, конечно, страшное чудовище, вооружившееся против радостей и утех любви и облекавшее в печальный траур всякое счастье и наслаждение.
Благодаря ужасу, действительно, испытываемому всеми, немалое место было отведено в стихах описанию и того страха, который должны были ощущать любовники, прокрадываясь к предметам своей страсти, страху, убивавшему в зародыше самое чувство любви. Все это было описано в самых замысловатых, остроумных метафорах, а в конце стихотворения помещен панегирик Людовику, так что, по-видимому, не оставалось ни малейшего сомнения, что королю это доставит непременное удовольствие. Людовик, прочитав про себя стихотворение, обратился, не поднимая глаз от бумаги, к Ментенон и, прочтя стихи еще раз ей вслух, спросил, весело улыбнувшись, что же следовало делать с просьбой бедных, испуганных любовников? Ментенон, верная принятому ею раз и навсегда тону безукоризненной добродетели, отвечала, что, по ее мнению, запрещенные, безнравственные сети любви не заслуживают покровительства и защиты, но что для пресечения ужасных преступлений, действительно, следовало принять самые строгие меры. Король, недовольный этим двуличным ответом, сложил бумагу и хотел уже выйти в соседнюю комнату, где его ожидал государственный секретарь, как вдруг, внезапно оглянувшись, увидел Скюдери, бывшую тут же и сидевшую недалеко от Ментенон на маленьком кресле. Подойдя к ней с прежней, игравшей на его губах улыбкой, исчезнувшей после ответа Ментенон, Людовик остановился и, перебирая в руках бумагу, сказал тихо:
- Маркиза мало знакома с сердечными похождениями наших кавалеров и видит в них одни запрещенные вещи. Но вы, милейшая Скюдери! Каково ваше мнение об этой поэтической просьбе?
Скюдери почтительно встала и с легким румянцем, вспыхнувшем на ее бледном, немолодом лице, тихо ответила, опустив глаза:
Un amant qui craint les voleurs
N'est point digne d'amour*.
______________
* Любовник, боящийся воров, недостоин любви (франц.).
Король, пораженный рыцарственным смыслом этих слов, уничтожившим в его душе впечатление всего бесконечно длинного стихотворения, воскликнул весело:
- Клянусь святым Дионисием! Вы совершенно правы! Не хочу и я жестоких мер, при которых правый может пострадать вместе с виноватым! Пусть Аржансон и Ла-Рени действуют как знают, по-прежнему!
Описав предварительно живейшими красками ужасы, волновавшие весь Париж, Мартиньер, дрожа, передала на другой день своей госпоже загадочный ящичек и рассказала ей ночное происшествие. Затем оба, и она, и Батист, стоявший в углу и перебиравший в руках с испуганным, бледным лицом свой ночной колпак, принялись умолять свою госпожу открыть ящичек не иначе как с величайшими предосторожностями. Скюдери, выслушав их и взвесив таинственную посылку на руке, отвечала, невольно улыбнувшись:
- Вы, кажется, оба сошли с ума! Разбойники знают также хорошо, как и вы, что я небогата, и потому меня не стоит убивать с целью грабежа. Вы сами сказали, что они умеют предварительно выследить нужный им дом. Значит, им нужна только моя жизнь, а я не думаю, чтобы кому-нибудь нужна была жизнь семидесятитрехлетней старухи, которая и злодеев-то преследовала только в сочиняемых ею романах, и еще писала стихи, не возбуждавшие ничьей зависти. От меня ничего не останется, кроме титула старой девы, иногда бывавшей при двору, да нескольких дюжин книг с золотым обрезом. Потому, какими бы страшными красками ты, Мартиньер, ни описывала появление того незнакомца, я все-таки не хочу верить, чтобы у него было что-нибудь дурное на уме! Значит...
Тут Мартиньер с невольным криком ужаса отскочила шага на три, а Батист почти упал на колени, когда их госпожа, храбро надавив блестящую пуговку ящика, заставила с шумом отскочить крышку. Но каково же было изумление всех троих, когда оказалось, что в ящичке лежали два великолепных золотых браслета, богато украшенных бриллиантами, и не менее драгоценное бриллиантовое ожерелье! Скюдери вынула вещи, и, пока она с удивлением рассматривала прекрасное ожерелье, Мартиньер, схватив браслеты, не переставала изумленно восклицать, что таких бриллиантов не было даже у чванной Монтеспан.
- Но что же это такое? Что это значит? - невольно задавала себе вопрос Скюдери.
Вдруг заметила она, что на дне ящичка лежала небольшая сложенная записка. В надежде найти в ней разрешение занимавшей ее загадки Скюдери прочла записку, но вдруг, задрожав, уронила ее на пол и, подняв умоляющий взгляд к небу, опустилась в бессилии в кресло. Мартиньер и Батист в испуге бросились к ней.
- О Боже! - воскликнула Скюдери, заливаясь слезами. - Какой стыд!.. Какое оскорбление!.. И это в мои годы!.. Как могла я, подобно глупой девочке, сделать такой необдуманный поступок? Вот к чему привели слова, сказанные полушутя! Я, прожившая всю жизнь, незапятнанная ничем с самого раннего детства, обвиняюсь теперь в сообщничестве с самым адским злодейством!
И она, горько рыдая, прижимала к глазам платок, между тем как Мартиньер и Батист, теряясь в догадках, решительно не знали, чем и как ей помочь в ее горе. Наконец, Мартиньер, заметив на полу роковую записку, подняла ее и прочла:
"Un amant qui craint les voleurs
N'est point digne d'amour."
Ваш острый ум, сударыня, избавил от тяжелых преследований нас, пользующихся правом сильного для присвоения себе сокровищ, отнимая их из рук низких и трусливых душ, способных только на мотовство. В знак искреннейшей нашей благодарности, просим мы вас принять этот убор. Это - драгоценнейшая из всех вещей, какие нам удалось добыть в течение долгого времени, хотя вы, милостивая сударыня, заслуживали бы украшения лучшие, чем эти. Просим вас и впредь не лишать нас вашего расположения и хранить о нас добрую память.
Невидимые".
- Возможно ли! - воскликнула Скюдери, придя в себя. - Возможно ли, чтобы до таких пределов могла дойти дерзость и наглость!
Между тем солнце, проглянув в эту минуту сквозь красные шелковые оконные занавески, осветило разложенные на столе бриллианты пурпурным отблеском. Скюдери, увидя это, закрыла в ужасе лицо и немедленно приказала Мартиньер спрятать украшения, на которых, казалось ей, видит она кровь убитых жертв. Мартиньер, укладывая вещи обратно в ящичек, заметила, что, по ее мнению, следовало бы представить вещи в полицию, рассказав вместе с тем и о таинственном появлении молодого человека в доме и вообще о всей загадочной обстановке, при которой бриллианты были вручены.
Некоторое время Скюдери медленно, в раздумьи прохаживалась по комнате, теряясь в предположениях, что следовало делать. Наконец, приказала она Батисту приготовить портшез, а Мартиньер помочь ей одеться, объявив, что немедленно отправляется к маркизе де Ментенон.
Скюдери знала, что в этот час застанет она маркизу наверняка одну в своих комнатах. Садясь в портшез, взяла она с собой и ящичек с убором.
Можно себе представить удивление Ментенон, когда вместо спокойного, полного достоинства и доброжелательства лицо, какое она всегда привыкла встречать у Скюдери, как это и соответствовало ее летам, увидела она на этот раз бедную старую женщину бледной, расстроенной, приближавшейся к ней неверными, дрожащими шагами. "Что случилось, во имя самого Господа?" воскликнула Ментенон, поспешив навстречу почтенной особе, огорченной до того, что с трудом смогла она дойти до середины комнаты и опуститься в подвинутое маркизой кресло. Придя, наконец, в себя, прерывистым голосом рассказала она Ментенон недостойную шутку, сыгранную с ней благодаря тем немногим словам, которые сказала она в насмешку над трусливыми любовниками. Ментенон, выслушав все, прежде всего постаралась успокоить бедную Скюдери, уверив ее, что она уж слишком близко к сердцу принимает это приключение, что никогда злая насмешка не может оскорбить или запятнать благочестивую душу и, наконец, в заключение попросила показать ей бриллианты.
Скюдери подала ей открытый ящичек. Крик изумления невольно вырвался из груди маркизы, едва она увидела действительно поразительное богатство убора. Взяв ожерелье и браслеты, подошла она с ними к окну, заставила играть камни на солнце, переворачивала их во все стороны, рассматривала тончайшие золотые скрепления цепочек и не могла налюбоваться поразительной чистотой и тонкостью искусной работы. Кончив этот осмотр, Ментенон обратилась к Скюдери и сказала решительно: