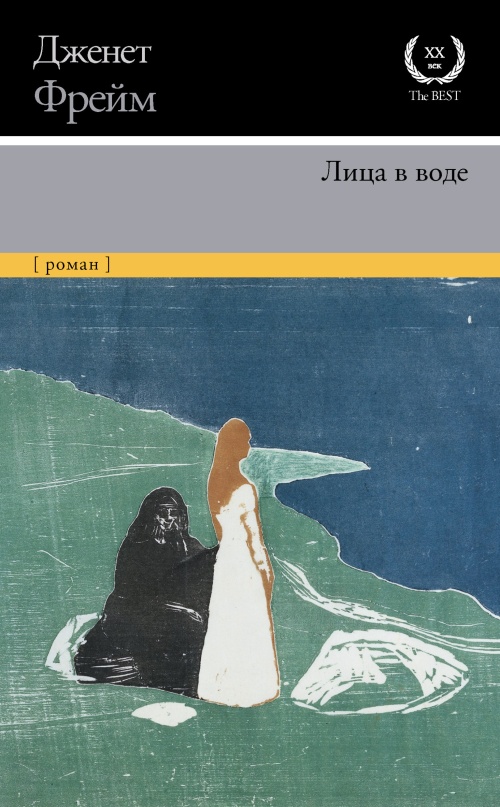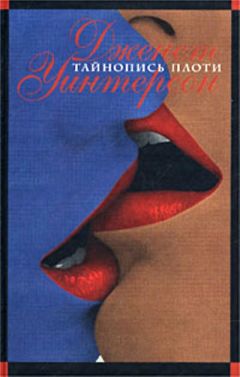палаты, где царил запах трухи, к иллюзорной реальности седьмого отделения, уверенной болтовне миссис Огден, раздражающей мечтательности остальных женщин, неторопливо рассказывавших о своих домах, семьях, симптомах и о том, какими хорошими были условия в этой больнице. Но я все больше и больше чувствовала себя гостем в загородном особняке, которого окружили заботой, который, однако, самым неожиданным образом находит следы чьего-то тайного присутствия, секретные панели, слышит постукивания и наконец подслушивает разговор хозяев, в котором упоминаются заговор, яд, пытки и смерть. Могло ли быть, что загородный домик, куда я приехала погостить на выходные, был моей собственной головой и тревожили меня проявления зла, обитавшего в ней?
Неожиданно для всех как-то вечером в ванной комнате разразилась ссора между Элизабет и миссис Дин.
«Я первая иду».
«Нет, я».
Казалось бы, всего лишь спор о том, кому первым принимать ванну. Что такого необычного или ужасного тут может быть? В седьмом отделении почти никто не ссорился; пациентку, которая отказывалась «сотрудничать», моментально переводили в некое «другое отделение». Возможно, перебранка утихла бы сама собой или разрешилась мирным образом, если бы главная медсестра Боро, совершая вечерний обход, не услышала ругань, не заглянула в помещение, не потребовала шокировано ответить на вопрос: «Что тут такое происходит?» – и не смотрела бы свирепо на полураздетую миссис Дин, женщину средних лет, которая не желала признавать свой возраст, не могла смириться с трансформациями своего тела, нервничала и расстраивалась из-за своей внешности и лишнего веса и всеми силами старалась сорвать ярлык, который на нее навесили ее годы. Взгляд главной медсестры Боро привел ее в ярость. Она стала обзываться и бросаться бранными словами.
«Ты, чертова жируха, бычара-переросток, не смей пялиться на меня».
Лицо и шея главной медсестры покраснели: для нее вопрос внешности тоже был болезненным.
«Выйдите вон, – скомандовала она. – Как вам не стыдно. Приведите себя в порядок. Для такого поведения нет никаких оправданий».
Миссис Дин отказалась покинуть ванную комнату. Элизабет стояла рядом, покорная, само воплощение сотрудничества.
«Понятно», – отчеканила главная медсестра, кивком головы подзывая на помощь и подходя к двери в ванной комнате, которую всегда держали запертой и которую никогда до этого при мне не открывали; дверь отперли, и вместе с тремя другими медсестрами главная медсестра Боро силой вывела через нее упирающуюся миссис Дин.
В нашем отделении мы больше ее не видели.
Я все размышляла об этом таинственном исчезновении. Куда она делась? В «другое отделение»?
Как-то позже, в знак признания того, что мне становилось лучше и скоро меня отпустят домой, медсестра попросила меня пойти вместе с ней на «большую кухню», чтобы вернуть бадью для овсяной каши (овсянка была единственным блюдом, которое готовила не Хиллси). До этого момента я никогда не видела ту часть больницы, что лежала за пределами сада, принадлежавшего седьмому отделению, я смотрела кругом, задавала вопросы и удивлялась, что, оказывается, больница занимала такую огромную территорию. Если посмотреть снаружи, со стороны приветливого главного входа, лечебница была похожа на укрытый плющом загородный дом; внутри же по всей территории было раскидано несколько ветхих строений, большая кухня, приземистая и грязная, стояла напротив здания, которое было в таком плачевном состоянии, что мне стало интересно, что за отделение там находится.
«Что там?»
«Там? Батистовый Дом».
Мы переступили порог тусклой, плохо вентилируемой кухни и сразу же были сбиты с ног запахом кипящих кабачков. Прошли мимо чана с булькающим жирным мясом и чана с месивом из манной крупы, за которыми следил мужчина в клетчатой рубашке с расстегнутым воротом, откуда выглядывала его волосатая грудь. Внезапно он засунул свою мохнатую руку в бак с кашей и стал энергично ее перемешивать. Пораженная и обескураженная этим зрелищем, я очень захотела вернуться в свое отделение, чтобы удостовериться, что нашу еду готовит Хиллси, да и в целом, чтобы проверить, что оно все еще существовало. На обратном пути, когда мы проходили мимо группы старых зданий, которые казались почти нереальными, настолько разительно они отличались от нашей собственной обители, мы повстречали двух санитаров, которые через заднюю дверь отделения номер четыреста пятьдесят один выносили чье-то опухшее тело, накрытое простынями.
«Миссис Дин, – опрометчиво прокомментировала медсестра. – Умерла».
Как рада я была вернуться к нам; я пыталась убедить себя, что сад, лужайка, плакучая ива, широко распахнутые окна и двери не были сном, что Трикрофт, хоть некоторые из его зданий и выглядели архаично, был больницей, которая проповедовала новый подход к лечению психиатрических заболеваний. Но тревога не утихала: я обнаружила секретные двери, прознала про страшные планы.
Мне по-прежнему делали ЭШТ; с каждым разом я все сильнее страшилась звука тележки и приглушенных криков, сопровождавших ее приближение, – от палаты к палате, все ближе и ближе. Настал момент, когда яркость интерьеров седьмого отделения вдруг превратилась в утомительную пестроту хаотично расползшейся растительности, существовавшей, казалось, чтобы скрывать перемещения смертоносных пресмыкающихся и ядовитых насекомых. Я услышала, что медсестры разговаривают резко, с угрозой. А клетчатые скатерти теперь заставляли меня вздрагивать: казалось, они были измазаны в крови и бедах. И никто не имел понятия о нарастающей угрозе. Рядом с загадочной дверью в ванной комнате я вдруг увидела другие, и у меня не было средств, чтобы узнать, куда они вели, хотя как-то раз одна из них была открыта и из помещения за ней потянуло кислым запахом мокрого постельного белья, который смешался с тяжелой сладостью аромата калл на каминной полке и амариллисов – похоронных цветов, которые приносят, чтобы заглушить запах смерти.
Был конец лета, грозы грохотали так, что, казалось, могли переломать нам кости, по небу проворно расползались изломы молний. Купальни для птиц были переполнены теплой, паркой дождевой водой, намокшие изящные листочки плакучей ивы поникли, вспыхивали пламенем по краям и на кончиках, похожие на скрутившиеся зеленые бумажки, поднесенные на мгновенье к огню. Мы проводили время внутри – в комнате, казавшейся дружелюбной. Медлительно, подергивая конечностями, переводя злобный взгляд с одного предмета на другой, насекомые ползали по ковру; рептилии скользили сквозь жижу внутри стен, выстреливая языками и снова пряча их в пасть.
Теперь, когда тетушка Роуз приходила навестить меня, я была еще более молчалива и с еще большим рвением угощалась мятными помадками и пирожными. Наша деревянная скамейка под плакучей ивой изветшала и вся была в пятнах крови; по ночам на лужайке рыли могилы; из дверей отделения номер четыреста пятьдесят один выбегали крохотные ящерицы с коричневыми сморщенными мордочками, пытались схватить зубами солнце и с клокотанием в горле убегали.
«Здесь так мирно», –