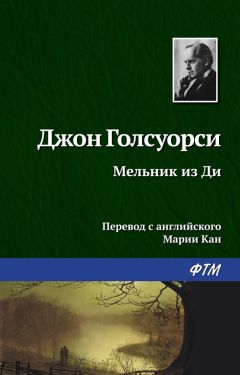В аллее каштанов я силился отыскать место, где оставили сердца те двое. Над ним пронесся ветер, и оно затерялось в чаще серого сумрака. Но, хоть я и не мог видеть его, я знал, что он здесь, этот поцелуй, навсегда запечатленный в лучах бледного солнца. И я искал его, жаждал его тепла в тот день, похожий на конец любви. Я так и не нашел его и тихо побрел домой; в похолодевшем воздухе умирали все запахи; шуршание сухих листьев под шагами собаки следовало неотступно за мною.
ВЬЮЧНОЕ ЖИВОТНОЕ
Перевод О. Атлас
В один зимний день я сидел в вагоне второго класса парижского поезда. Около меня оставалось свободное место, и вскоре его занял появившийся с узелком в руках французский матрос, неуклюжий, крепко сбитый молодой парень, похожий на диванный валик, в синей форме и берете с темно-красным помпоном. Он сидел, подавшись вперед, упершись руками в бока, и его обветренное бритое лицо, своим выражением напоминавшее лицо некрасивого заброшенного ребенка, было так неподвижно, словно у этого человека совершенно не работала мысль. Вдруг, прикрыв рот рукой, он закашлялся долгим, почти беззвучным кашлем.
Поезд тронулся. Пассажиры занялись чтением или улеглись спать, но матрос сидел неподвижно, и время от времени слышен был его приглушенный, свистящий кашель.
В Амьене проверяли билеты, и кондуктор потребовал с матроса доплату разницу между ценой билета второго и третьего класса. Медленно достал огорченный матрос эти деньги из старого кожаного кошелька.
Мы снова тронулись. Видно, этот инцидент сломил стоицизм матроса: он зашевелился и заговорил со мной по-французски. Говорил он нескладно и с фламандским акцентом, так что я с трудом понимал его. После каждой фразы он опускал нижнюю губу, как будто это было его последнее слово. Он, насколько я понял, возвращался из Дюнкерка на свой корабль в Шербур, и это был последний поезд, которым он мог добраться до места, не опоздав. Дома он оставил мать-вдову совершенно без денег, и поэтому дополнительная плата за билет его так расстроила. Восемнадцать месяцев он прослужил на чужбине, восемнадцать дней прожил дома; теперь он ехал дослуживать свой срок где-то в Китае. Его брата убили японцы, совершенно случайно, приняв его за русского. А отец во время летнего лова утонул где-то около Исландии.
- C'est me qui a une mere, c'est me qui est seul a la maison. C'est elle qui n'a pas le sou {У меня есть мать, я ее единственный кормилец. У нее нет ни гроша (франц.).}.
Это была его единственная связная фраза, и, сказав ее, он сплюнул. Затем, поняв по выражению лиц пассажиров, что этого делать не следовало, он медленно, скрипя башмаком, растер свой плевок. И, глядя на меня маленькими, глубоко посаженными глазами, сказал:
- Я болен. - И добавил медленно: - А что, климат в Китае вреден для больных?
Я пытался успокоить его, но он только качал головой и после долгой паузы опять повторил:
- Мать у меня, я единственный кормилец в доме. У нее нет ни гроша.
Скажите - казалось, вопрошали его глаза - почему это так? Вот у меня мать, у которой я один кормилец, а меня посылают умирать.
Он потер ладонями свои округлые бедра, затем, не меняя положения рук, наклонился вперед и сидел молча, глядя куда-то в пространство темными глазами. Больше он не беспокоил меня разговором - он уже облегчил душу. И вскоре на вокзале ушел от меня как бессловесное, терпеливое животное, покорно несущее свою ношу. Но я долго не мог забыть его лицо и монотонный голос, твердивший: "У меня есть мать, я у нее один, у нее нет ни гроша".
БРОДЯГИ
Перевод А. Ильф
Было тихо. Солнце заходило, в теплом сонном воздухе не чувствовалось даже легкого ветерка.
Неяркий свет падал на беленые дома, беспорядочно разбросанные вдоль улицы, округляя углы и бросая на стены, крыши, пороги тусклый розоватый отблеск. На пустыре перед церковью Утоления Печалей и у магазинов и домов виднелись люди, - они стояли в ленивых позах и молчали или вяло судачили, мягко, по-девонширски, растягивая слова.
Перед кабачком развалился щенок-спаньель; головастый и неуклюжий, он играл собственными ушами и беспомощно глазел на детей, которые выбегали из переулков, лениво гонялись друг за другом и исчезали. У стены старик в бумазеевом костюме, с густой бородой торчком, грузно опираясь на палку, сонно переговаривался с кем-то внутри. Издалека доносилось воронье карканье, пахло свиной грудинкой и прелым сеном, горящими дровами, жимолостью.
Потом над дремлющей деревней возник звук колес и с ним какое-то движение и шорох.
Шум колес становился громче, потом затих; напротив церкви остановился цыганский фургон, похожий на пещеру - черный, заляпанный грязью, с корзинками, связками лука, сковородками, вьющейся струйкой синего дыма, запахом поношенной одежды.
Лошадь стояла там, где ее остановили, не шевелясь, устало понурив голову; рядом потягивалась девушка-цыганка, стоя на одной ноге и заложив руки за голову; обманчивая игра света превращала в бронзовые ее иссиня-черные волосы.
Гибкая, как змея, она сверкала во все стороны темными глазами, одергивая юбку и поправляя на груди истрепанную шаль. В ее угловатых чертах заметно было кошачье хитроватое выражение, присущее людям ее племени.
Широкоплечий старик с проседью и медно-красным лицом наклонился над оглоблей и заговорил с кем-то в фургоне.
Движение и шорох возобновились.
Из домов, переулков, отовсюду выбежали дети - мальчики и девочки. В белых платьях и цветных, с чистыми рожицами и с неумытыми; они сначала суетились и подталкивали друг друга, потом притихли.
Они держались за руки, рты их были широко открыты. Стояли полукругом, пестрой примолкшей толпой в двух-трех ярдах от фургона, взрывая ногами пыль, шепчась. Порой немного расступались, будто хотели убежать, потом сдвигались еще теснее. Из фургона вылезла с малышом на руках старуха с густыми волосами и крючковатым носом. За ней, цепляясь за ее подол, пряталась маленькая девчушка. В кругу детей непрерывно слышались тихие, взволнованные восклицания, точно гул телеграфных проводов.
Старуха положила малыша на руки старому цыгану, посадила девчушку на козлы и отошла от фургона, торопливо и негромко разговаривая с девушкой. Обе скрылись среди домов, и круг детей придвинулся ближе к фургону; кулачки начали разжиматься, пальцы - указывать; мальчишки уже носились взад и вперед.
Свет постепенно утратил розовый оттенок, контуры предметов стали резче; послышалось слабое жужжание комаров; и внезапно тишину раскололи спорящие голоса.
Старик у стены кабачка сплюнул сквозь веник своей бороды, разогнулся, раздраженно буркнул что-то и заковылял прочь, опираясь на палку; щенок-спаньель смущенно ретировался в кабачок, отрывисто тявкая и оглядываясь на бегу; люди выходили из домов, глазели на фургон и, повернувшись на каблуках, тут же исчезали. То новое, что принесли чужаки в деревню, было так же трудно уловить, как игру света.
Старый цыган облокотился на оглоблю, посвистывая и набивая трубку; над ним, на краю козел, сидели малыш и девочка с льняными волосами и загорелыми лицами; они были немы, как куклы, и глядели на все както по-кукольному, будто их выставили напоказ.
Так, видно, и думали дети, которые подталкивали друг друга и шушукались; две-три девочки постарше тянулись к малышу, но тотчас отдергивали руки, испуганно хихикая.
Мальчики затеяли игру. Интерес новизны, который вызвали в них цыгане, уже сменялся пренебрежением, но девочки стояли, как зачарованные, вертя светлыми головами, указывая пальцами на детей или маня их к себе.
Свет снова смягчился, став более серым и таинственным; предметы теряли определенность, отступая и растворяясь в сумраке; мерцавший в окне огонек лампы разгорелся ровным пламенем.
Раздался голос старого цыгана, отчетливый и убедительный - он что-то говорил детям. Концертино на улице заиграло "Правь, Британия" в ритме польки; уже слышался шум танцев и драки; во дворе кабачка кричали два голоса.
Чья-то тележка, дребезжа, двигалась между темными домами. Залаяла собака; крики играющих мальчишек стали пронзительней; сквозь них прорывались плач ребенка и протяжные звуки концертино, то усиливавшиеся, то затихавшие. Из дома вышла женщина и, бранясь, увела двух девочек: "На что вам сдались эти цыгане? Дуры!"
Кучка мужчин столпилась у входа, оживленно разговаривая, смеясь; лица их были не видны в темноте, горящие трубки рассыпали брызги искр. Из окон сквозь синеватую тьму пробивались веерообразные огни ламп. В свете одной из них обрисовывались голова старого цыгана и головки обоих детей, казавшиеся золотыми на фоне мрачной дыры фургона.
Затем, будто из-под земли, снова возникли фигуры двух цыганок; старый цыган снял руки с оглобли, послышалось несвязное бормотание, быстрое движение, беспокойный смех девушки; старая лошадь дернулась вперед, и фургон двинулся. Впереди, держась за поводья, бесшумно ускользала в ночь темная, изогнутая фигура девушки-цыганки; с тяжелым громыханьем черный фургон исчез вдали.