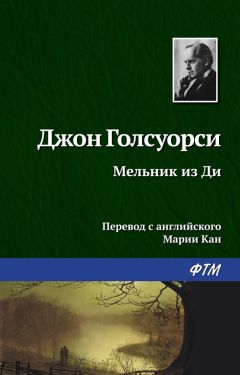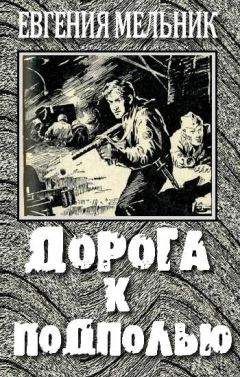Ознакомительная версия.
Джон Голсуорси
Мельник из Ди
Маккриди был человек солидный, но у себя в деревне он считался чужаком.
За ним не водилось ничего плохого – наоборот. Он исполнял должность паромщика: перевозил через реку обитателей поместья и каждый вечер объяснял завсегдатаям кабачка, что если бы он не стоял так бдительно на страже своих прав, быть бы ему уже слугой на жалованье. «На постоянном жалованье, понимаешь ли, и никакой возможности честно подработать лишний пенни».
Лишние пенни он честно подрабатывал тем, что со всякого, кто был не из господской семьи, взыскивал за переправу шестипенсовик. Он был непоколебимо уверен, что «джентри» – мелкопоместные дворяне – специально объединились, чтобы лишить бедняков их прав. Это свое убеждение он проповедовал каждый вечер, что, казалось, должно было бы снискать ему всеобщую симпатию. Однако нечто загадочное и неуловимое заставляло всех в деревне чувствовать в нем чужого. Никто никогда не слышал, чтобы он выразил недовольство этим неписаным, негласным приговором. Никто, собственно говоря, и не знал, догадывается ли он о чем-либо. Тихими вечерами люди видели, как он сидит в лодке у заводи, неподалеку от поместья, под крутым лесистым обрывом, будто думая невеселую думу о своих затаенных обидах. Иногда он любил спеть, но всегда пел одну и ту же песню: «Мельник из Ди». Песню эту он пел во всех случаях жизни; при этом у него от усердия потешно кривился рот под каштановыми с проседью усами. С террасы господского дома поздно вечером было слышно, как, возвращаясь вниз по реке к своему домику на том берегу, Маккриди распевает свою песню и немилосердно фальшивит.
Откуда он был родом, никто доподлинно не знал. Одни говорили, из Ирландии, другие были склонны считать, что он шотландец, а один, человек с богатым воображением, был убежден, что Маккриди – выходец из Исландии. Вся деревня изнывала, терзаясь этой загадкой, – это была маленькая деревенька, где слышался резкий северный говор, а над белыми домиками всегда поднимались пушистые дымки. Да и насчет денег Маккриди был прижимист – не известно, много у него было денег или нет.
Как-то ранней весной он отпросился в отпуск и на месяц куда-то пропал. Возвратился он с женой – молоденькой, бледной женщиной, судя по выговору, южанкой. Интересная она была, эта самая жена Маккриди: держалась очень тихо, смиренно и будто посмеивалась слегка над собственной невольной покорностью.
Пришел май, и каждое утро видно было, как движется по саду стройная фигура, такая тонкая в талии, что, казалось, вот-вот переломится. Развешивает белье для просушки, наклоняется над грядками, а с порога на нее хозяйским оком взирает Маккриди. Быть может, он видел в ней символ своей победы – победы над одиночеством, а может, просто считал, что теперь в его кубышке прибавилось капитала. Ни с кем в деревне она не подружилась: она ведь была женою Маккриди, да еще южанкой к тому же. Да Маккриди и не хотел, чтобы у нее заводились друзья. Если он куда-нибудь отлучался, то с лодкой управлялась она, и когда пассажиры сходили на берег, она оставалась на веслах, не двигаясь, глядя вслед уходящим, и ловила звук их шагов, как будто ей не хотелось, чтобы они затихли. Потом медленно гребла обратно по бурливой серебристо-бурой реке и, привязав лодку, долго стояла на берегу, прикрыв глаза рукой от солнца.
Маккриди по-прежнему проводил вечера в кабачке, но о жене никогда не говорил ни слова, и если кто-нибудь спрашивал, как она поживает, здорова ли, он так и впивался в собеседника злыми, как у мопса, глазами. Он как будто подозревал, что деревня задумала отнять у него жену. Инстинкт, который заставлял его прятать деньги в кубышку, подсказывал, что надо прятать и жену. Раз ему никто ничего не дает, значит, никто не должен поживиться и за его счет.
Созрело, налилось соком и миновало лето; наступила осень. Речка текла багряная от листьев, и часто в сырую погоду деревенька совсем терялась в мягкой дымке, окутывавшей ее. Маккриди становился все менее словоохотлив, все реже приходил в кабачок и, бывало, выпив всего полбутылки, ставил рюмку на стол и уходил, как будто вспомнив о чем-то. В деревне болтали, что у миссис Маккриди несчастный вид. Она перестала ходить по воскресеньям в церковь. О самом Маккриди и говорить нечего – он туда и раньше-то никогда не ходил.
В один прекрасный день в деревне узнали о том, что заболела теща Маккриди и миссис Маккриди уехала ухаживать за нею. И правда, больше никто уж не видел, как мелькает ее фигура в садике под утесом. У Маккриди стали спрашивать, как чувствует себя его теща, а потом это вошло в привычку, потому что вопрос этот явно раздражал его. Он отворачивался и, злобно рванув весла, отвечал:
– Э-э! Да будто получше!
Должно быть, ему надоели расспросы, потому что он и вовсе перестал бывать в кабачке, и каждый вечер, когда на реке смыкались густые тени деревьев, видно было, как он глядит в воду, перегнувшись через борт своей лодки, стоящей на причале в глубокой заводи прямо под его домиком. И никогда уже больше не слышали, как он поет свою любимую песню.
«По жене скучает», – говорили в деревне и в первый раз с тех пор, как он здесь поселился, к нему стали относиться, пожалуй, чуть ли не сочувственно.
Но как-то ранним утром помощник лесника, издавна затаивший на Маккриди обиду, пошел к заводи и, терпеливо провозившись целый час, выудил со дна миссис Маккриди, аккуратно зашитую в мешок, куда для тяжести были положены камни. Лицо ее почернело. В убийстве обвинили Маккриди. Маккриди рыдал и не говорил ни слова. Его забрали в окружную тюрьму.
На суде он оставался нем как рыба. Его признали виновным. Помимо всего прочего, было установлено, что у миссис Маккриди нет никакой матери.
Ожидая, когда его повесят, Маккриди попросил, чтобы к нему прислали священника, и сказал ему:
– Послушай, отец, плевать мне на то, о чем ты собрался здесь рассуждать. Успеешь поговорить, когда меня не будет в живых. Не с тобой я веду разговор, да и вообще ни с кем – просто я здесь один, и для меня это роскошь видеть лицо человека, а не пустые глаза старикана стражника. Я не верю, что ты лучше меня, а если бы и верил, какая разница? Мне надо примириться с самим собой, а не с кем-нибудь. Думаешь, я бы смог жить сам по себе, если бы верил таким, как ты? Для меня ни разу не нашлось доброго слова – что у деревенских, что у господ – все едино. Стадо ослов! А почему не нашлось у них доброго слова? Да только потому, что я сам по себе. Они тебе станут говорить, что я скупой, скаред по-ихнему. Почему же я был скуп? А потому что знал, что они все против меня. С какой же радости мне им что-то давать? Они только и ждали, как бы забрать у меня все! Они тебе скажут, что я в грош не ставил жену. Это вранье, поп. Да у меня только и было, что она. И если бы я с ней так не поступил, я бы все равно потерял ее, это так же верно, как то, что я с тобой сейчас говорю. Я чуял это всю осень. Я, знаешь, не из тех, кто боится глядеть правде в глаза, меня разными там словечками с толку не собьешь. Вот ты рассуди: у тебя, допустим, есть бриллиант, и его собираются украсть. Так чем стоять, смотреть, уж лучше ты его сам бросишь в море, верно ведь? Сам знаешь, что верно. Ну, она померла – только-то. И я помру, когда меня удавят. Ты, поп, смотри, не болтай языком, что она, мол, грешница. Она ни разу не согрешила – не успела. Я не хочу, чтоб ты ее ославил, когда меня не будет и я не смогу вступиться. Но она бы согрешила, это уж точно. Что правда, то правда. К тому дело шло, понятно? Да, я бы наверняка ее потерял, и я тебе скажу, как я узнал это доподлинно.
Дело было в конце октября. Я, значит, высыпал всю выручку за перевоз и говорю жене: «Дженни, – говорю, – сегодня ты поработаешь на перевозе. Я еду в город, хочу купить кое-что из одежды. Ты смотри, – говорю, – чтоб никто не пролез на лодку, если не выложит тебе, честь по чести, шесть пенсов».
«Ладно, Маккриди», – говорит. Я завернул себе в бумагу мяса, хлеба и велел ей меня перевезти на тот берег. Отошел немного по дороге, обождал, сколько ей надо, чтобы добраться назад, а потом повернул и потихоньку опять подкрался к воде. Смотрю, она так и сидит, как я ее оставил. Я опешил – сам понимаешь, как бывает, когда думаешь одно, а выходит по-другому. «Дженни, – сказал я ей, как будто нарочно для этого вернулся, – ты хорошенько смотри, чтобы все платили, ладно?»
«Хорошо, Маккриди», – говорит. И поворачивает лодку назад. Ну, немного времени прошло, я снова спустился к реке, спрятался в кустах на берегу и просидел там целый день, смотрел, что будет. Видел ты когда-нибудь, как кролик попадается в силок? Четырех она перевезла через реку, и я каждый раз видел, как ей платят за перевоз. Но позднее, под вечер, к реке спустился тот самый, кого я подстерегал, – сам нечистый. Спустился и кричит: «Перевоз!» Жена подгребла к этому берегу, и он сел в лодку. Я с нее глаз не сводил. Я видел, как они разговаривают в лодке, видел, как он вылез на берег и взял ее за руки. Больше видеть было нечего, он ушел. Я дождался вечера, вылез из кустов и позвал: «Перевоз!» Жена тут как тут: она всегда была наготове. Перевезла меня. Я первым делом открываю кассу и вынимаю четыре медяка.
Ознакомительная версия.