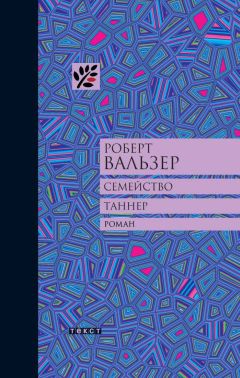— Что вам нужно? — в свою очередь выкрикнул Симон, но живо обогнул мужика и побежал прочь, не желая слушать, что тому надобно. Сердце его билось учащенно, однако ж испугала его неожиданность, а не сам мужик. Потом он шел через спящую, бесконечно длинную деревню. Дорога снова вела в гору. Симон уже ни о чем не думал, растущее напряжение парализовало его мысли; тихие источники чередовались с одиночными купами деревьев, леса — с тучами, валуны — с родниками, все словно бы шагало вместе с ним и пропадало за спиною. Ночь выдалась сырая, темная и холодная, но у него горели щеки, а волосы взмокли от пота. Неожиданно Симон заметил внизу что-то вытянутое, просторное, поблескивающее, искристое — озеро; и он остановился. Отсюда путь лежал под гору, по прескверной дороге. Впервые у него разболелись ноги, но он не обращал внимания, шел дальше. Слышал, как с глухим стуком падали в луговую траву яблоки. До чего же волшебно красивы были эти луга, непроглядные, темные. Деревня, по которой он теперь шел, возбудила в нем любопытство своими изысканными домами. Но тут Симон уже знать не знал, куда идти дальше. Сколько ни искал, никак не мог найти нужную дорогу. От огорчения он недолго думая зашагал по большому тракту. И минуло, пожалуй, не меньше часа, когда чутье наконец отчетливо сказало ему, что он выбрал не то направление; он повернул обратно, едва не плача от злости и что есть силы топая ногами, будто они во всем виноваты. Воротился в деревню — два часа попусту потерял, стыд да и только! Теперь и нужная дорога мигом нашлась, стоило лишь присмотреться — вон она, под деревьями, что сбрасывают листву, узенькая боковая дорожка, сплошь усыпанная шуршащим опадом. Симон очутился в лесу, в горном лесу, который устремлялся вверх по круче, и, когда уже не видел перед собою тропы, двинулся напрямик, не разбирая дороги, все выше, выше, сквозь непролазный ельник, расцарапывая лицо, обдирая ладони, но, по крайней мере, на самом верху лес, через который он продрался со стонами и бранью, наконец-то кончился, и его взору открылись привольные луга. Минуту он стоял спокойно: «Господи, коли я опоздаю — какой позор!» Дальше! Он уже не шел, он бежал по мягкой полевой земле, не глядя под ноги. Бледный, робкий утренний свет порою ласкал глаза. Он перепрыгивал через огорожи, которые словно насмехались над ним. О дороге давно и думать забыл. Широкую солидную дорогу берег в фантазии как нечто бесценное, о чем мечтал всем сердцем. Теперь он спешил под гору, в узкие ущельица, где дома, точно игрушки, лепились к склонам. Чуял запах ореховых деревьев, под сенью которых бежал; внизу, в долине, вероятно, лежал город, но то было лишь алчное предчувствие. Наконец отыскалась дорога. Ноги и те словно возликовали, и он зашагал спокойнее, только когда приметил источник, ринулся к нему сломя голову. Внизу впрямь обнаружился маленький городок, Симон миновал чем-то похожий на монастырь белый, изящный дворец, ветхость которого растрогала его до глубины души, и снова очутился на открытом месте. Забрезжил день. Ночь как бы побледнела; долгая, тихая ночь легонько пошевелилась. Теперь Симон шел ходко, бодрым шагом. До чего же удобно идти по такой вот гладкой дороге, которая широкими витками вела сначала вверх, а потом отлого вниз. Туманы пали на луга, ухо внимало первым шорохам дня. Все-таки как долго длится ночь. Нынешней ночью, когда он шагал себе по земле, какой-нибудь ученый, к примеру его брат Клаус, сидел, наверно, под лампой у письменного стола и бодрствовал, так же хмуро и устало. Наверно, этакому домоседу пробуждающийся день видится не менее чудесным, чем ему, идущему сейчас по проселку. В домишках уже зажигались рассветные огоньки. Вот и второй город, покрупнее, сперва домики предместий, потом улочки, потом ворота и широкая главная улица, где Симону бросилось в глаза красивое здание с изваяниями из песчаника — старинный городской замок, ныне служивший почтамтом. На улицах уже появились прохожие, у которых можно спросить дорогу, как накануне вечером. За городской чертой снова открылась просторная равнина. Туман рассеялся, проступили краски, восхитительные, чарующие утренние краски! Похоже, будет прекрасное, голубое осеннее воскресенье. Навстречу Симону шли люди, преимущественно женщины, по-воскресному нарядные, вероятно проделавшие долгий путь, чтобы добраться до города, в церковь. День становился все ярче и многоцветнее. Теперь можно было разглядеть, что на лугу у дороги лежат огненно-красные фрукты, а с деревьев то и дело падают все новые спелые плоды. Поистине Симон очутился в плодовом краю. Попадались ему навстречу и неторопливые подмастерья, относившиеся к ходьбе не так серьезно, как он. Целая компания таких парней разлеглась в первых лучах солнца на краю лужайки — сколь уютная и покойная картина! Мимо провели корову, а женщины так мило здоровались. Симон на ходу грыз яблоки, теперь и он спокойно шагал по незнакомым, красивым, богатым местам. Дома у дороги выглядели так радушно, но еще краше и изящнее были те, что укрылись под деревьями подальше от тракта, среди зелени. Холмы прелестно и мягко поднимались вверх, вершины манили, все было голубым, все пронизано дивной, пламенной голубизной, на телегах ехали целые компании, и наконец Симон углядел возле дороги домишко, а за ним город, и из окна домишка высовывался его брат. Он пришел вовремя, задержался без малого на четверть часа супротив условленного времени. И торжествуя, вошел в дом.
В комнате у брата он принялся во все глаза рассматривать обстановку, хотя смотреть было особо не на что. В углу стояла кровать, правда весьма любопытная, ведь на ней спал Каспар, и окно тоже чудесное, хотя простенькое, деревянное, с незатейливыми занавесками, зато в него только что выглядывал Каспар. На полу, на столе, на кровати, на стульях лежали рисунки и картины. Гость перебрал пальцами все листы до единого — какая красота, какое совершенство. Симон поразился трудолюбию художника, сколь много тот успел сделать, можно часами рассматривать.
— Природа у тебя как живая! — вскричал он. — Прямо сердце замирает каждый раз, когда я гляжу на твои новые картины. Каждая так прекрасна, лучится чувством и верно передает природу, а ты пишешь снова и снова, хочешь добиться еще большего совершенства, поди, многое уничтожаешь, что, на твой взгляд, не удалось. А вот я не нахожу здесь ни одной неудачной картины, все они трогают меня и завораживают мою душу. Любой штрих, любой красочный мазок твердо и неколебимо убеждают меня в твоем абсолютно чудесном таланте. Глядя на твои пейзажи, писанные кистью с такой свободою и с таким теплом, я всегда вижу тебя и словно бы сочувствую тебе, поскольку догадываюсь, что искусство не ведает конца. Я хорошо понимаю искусство, и беспокойство, в какое оно повергает людей, и стремление вот так искать милости и любви природы. Чего мы желаем, когда с восторгом смотрим на изображенный пейзаж? Только ли наслаждения? Нет, мы желаем, чтобы он что-то нам объяснил, но это что-то определенно останется вовеки необъяснимым. Оно глубоко вторгается в душу, когда мы, лежа у окна, мечтательно созерцаем закатное солнце, но все равно не идет в сравнение с улицей под дождем, когда женщины изящно приподнимают юбки, или с видом сада либо озера под легким утренним небом, или с простой елью зимой, или с ночной прогулкой в гондоле, или с альпийской панорамой. Туман и снег восхищают нас не меньше, чем солнце и краски, ведь туман делает краски чище и утонченнее, а уж снег, например под теплой синью предвешнего неба, и вовсе штука загадочная, чудная, почти непостижимая. Как замечательно, Каспар, что ты пишешь картины, и пишешь превосходно. Я бы хотел быть частицей природы, чтобы ты любил меня так, как любишь всякую частицу природы. Ведь любовь художника к природе наверное невероятно сильна и мучительна, она куда жарче, и трепетнее, и искреннее, чем даже у поэта, к примеру у этакого Себастиана, о котором я слыхал, будто он устроил себе жилье в горной пастушеской хижине, чтобы без помех, словно отшельник в Японии, поклоняться природе. Поэты привязаны к природе наверное не столь крепко, как вы, художники, ведь они обыкновенно имеют о ней искаженные и косные представления. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и в этом случае мне хотелось бы ошибиться. Сколько же ты работал, Каспар! Уверен, у тебя нет причин корить себя. На твоем месте я бы не стал. Я-то себя не корю, хотя как раз мне это бы явно не повредило. Но я не корю себя потому, что укоры внушают тревогу, а тревога — состояние, недостойное человека…
— Тут ты прав, — вставил Каспар.
Потом они вдвоем прогулялись по городку, все там осмотрели — времени на прогулку ушло немного, но при большой восторженности, с какой они это делали, не так уж и мало, — встретили почтаря, который, скроивши гримасу, вручил Каспару письмо. Письмо было от Клары. Братья полюбовались церковью и величием городских башен, горделивыми городскими стенами, кое-где пробитыми, беседками, увитыми виноградом, и бельведерами на горе, где давным-давно никто не бывал. Высокие ели серьезно взирали на старинный городок, вдобавок небо сияло так ласково, и дома словно бы сердились и досадовали на свою приземистую неуклюжесть. Луга искрились, а холмы, поросшие золотым буковым лесом, манили ввысь и вдаль. Под вечер молодые люди отправились в лес. Шли большей частью молча. Каспар притих, брат догадывался, о чем он думает, и не хотел его отвлекать, ведь размышления казались ему важнее, нежели разговор. Они сели на скамью.