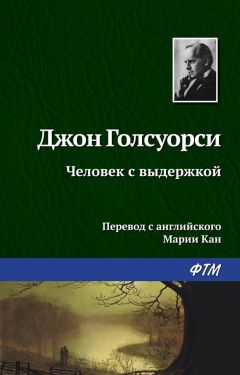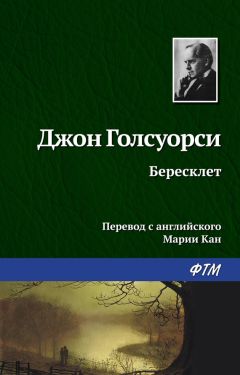- И вы убежали из дому? - спросил я тихо.
Она утвердительно кивнула.
- Да. Это было единственное, на что у меня хватило в жизни смелости. Сердце мое разрывалось на части от того, что пришлось расстаться с малышкой. Но другого выхода не было: или бежать, или утопиться. Сердце у меня тогда было еще податливое, и я уехала с одним парнем, букмекером, - он приезжал к нам на спортивные состязания и влюбился в меня по уши... Но и он не захотел жениться... - Женщина снова засмеялась тем же резким смехом. - Что ему со мной было стесняться!..
Указав на горевший дрок, она сказала после недолгого молчания:
- Девочкой я всегда приходила сюда и помогала его жечь.
И неожиданно заплакала. Но видеть эти слезы было не так мучительно и страшно, как ее прежнее немое отчаяние: теперь они казались мне понятными и естественными.
На обочине дороги, близ ворот, валялся старый башмак, и я, чтобы не смотреть на плачущую женщину, внимательно стал его разглядывать. Изношенный черный башмак меж камней и диких растений, он был так же неуместен здесь, среди своеобразной прелести этого весеннего дня, как и сидевшая против меня несчастная женщина, вздумавшая посетить свою молодость. Я живо вообразил себе этот уголок леса в ту летнюю ночь, когда, по ее выражению, "луна вошла ей в кровь", и в жарком мраке, среди высоких папоротников, двух юных влюбленных, послушных велению своей крови.
С ясного голубого неба внезапно полетели снежные хлопья на нас, на горящие дымным красным пламенем кусты дрока. Снег осыпал волосы и плечи женщины, а она, плача и смеясь, подняла руку и пробовала ловить его, как разыгравшийся ребенок.
- И надо же быть такой капризной погоде как раз в день свадьбы моей дочки! - сказала она.
Потом с некоторым раздражением добавила: - К счастью для нее, она не знает и никогда не узнает своей матери!
И, подобрав с земли шляпу с перьями, она решительно встала.
- Мне пора идти на станцию, иначе опоздаю к поезду. А я сегодня жду гостя...
Она надела шляпу, утерла мокрое лицо, отряхнула и разгладила юбку, но все еще не уходила: стояла и смотрела на горящий дрок. Теперь, обретя снова свой городской вид и привычную напускную бойкость, она еще больше напоминала мне этот старый, выброшенный за ненадобностью башмак, такой неуместный на фоне весеннего утра.
- Глупо было приезжать сюда, - сказала женщина. - Только душу разбередила. Как будто у меня и без того мало огорчений! Ну, прощайте и спасибо за винцо! Оно мне здорово развязало язык, верно? - Она смотрела на меня не так, как смотрят женщины ее профессии, нет, это был взгляд, полный неуверенности и человеческой грусти. - Я вам уже говорила, что моя девочка была всегда весела, как птичка. И я рада, что она осталась такой. Рада, что повидала ее...
Губы ее дрожали, но она кивнула мне с небрежной развязностью и пошла по тропинке вниз.
А я сидел под снегом и солнцем еще несколько минут после ее ухода. Потом постоял у горящих кустов дрока. Раздуваемое ветром пламя и синий дым казались живыми и были очень красивы. Но они оставляли на земле черные скелеты вместо веток.
"Ничего, - подумал я, - через неделю-другую из-под них начнут пробиваться к солнцу зеленые побеги. Такова жизнь! Она вновь и вновь рождается из смерти и уничтожения. Да, удивительная она, наша жизнь!"
МАННА
Перевод Г. Журавлева
1
Зал мирового суда в Линстоу был переполнен. Чудеса случаются не каждый день, и не каждый день приходских пасторов обвиняют в воровстве. Все те, кто сомневается в жизнеспособности нашей древней религии, могли бы порадоваться, видя такую заинтересованность. Люди, которые никогда не покидали своих ферм, прошли пешком целых три мили, чтобы присутствовать на суде. Миссис Глойн, рыжеватая хозяйка лавки, в которой можно было приобрести мыло, селедку, сыр, спички, шнурки для ботинок, драже и другие предметы провинциальной роскоши, сказала жене фермера Редленда:
- Ну и дела! Столько людей!
На что миссис Редленд ответила:
- Совсем как в церкви в воскресенье.
Женщин здесь, правда, было больше, чем мужчин, потому что они благочестивее и еще потому, что за последние два года большинству из них пришлось расстаться с изрядным количеством масла, цыплят, уток, картофеля и других благ земных, которые забирал у них пастор. Поэтому они проявляли законный интерес к этому делу и сидели на суде, негодуя в меру понесенных ими убытков. Они пришли из Троувера, что в двух милях от Линстоу, деревушки, расположенной на вершине холма, с отлично сохранившейся колокольней, тогда как здание церкви потеряло свой облик после образцовой реставрации; некоторые пришли даже с берега Атлантики, который лежит еще дальше, за грядой меловых холмов, откуда другие квадратные церковные башни видны на фойе серого январского неба. Случай был единственный в своем роде, и его остроту усиливало соперничество двух церквей. Между господствующей церковью и протестантской общиной в Троувере не было слишком горячей дружбы, и, расставаясь со своими приношениями, паства первой утешала себя тем, что в противном случае бедность пастора стала бы объектом насмешек протестантов (тоже присутствовавших в этот день на суде). Дело, конечно, не в том, что паства ставила ему в заслугу его бедность. Это было бы глупо, тем более, что, как утверждала молва, финансовые затруднения пастора были вызваны его верой в акции. Попытку улучшить свое пусть скромное, но надежное положение игрой на бирже прихожане не сочли бы предосудительной, если бы она увенчалась успехом, но неудачи заставляли пастора прибегать к их маслу, их картофелю, их яйцам и цыплятам. В этом приходе, так же, как и в других, никто не оспаривал изречения "Удача - лучший путь к преуспеянию", ни у кого в деревне также не было неестественной склонности оспаривать право каждого человека стремиться к богатству.
Однако ничто так не раздражает, как человек, которого вы вправе о чем-то просить, но который сам начинает просить что-то у вас. Вот почему длинная, худая фигура пастора в черной одежде, такая прямая, точно он проглотил при рождении аршин, его узкое; лишенное растительности, бледное, изможденное лицо с рыжими бровями и глазами, которые, казалось, то загорались, то потухали, его рыжие с проседью волосы под позеленевшей от времени шляпой, его резкий, повелительный голос, отрывистый, невеселый смех - все это действовало прихожанам на нервы. Его лающие слова: "Мне нужен фунт масла... заплачу в понедельник", "Мне нужна картошка... скоро заплачу!" раздавались слишком часто в ушах тех, кто до сей поры получил от пастора за свои продукты лишь духовное возмещение. По временам некоторые циники говорили: "Вот еще! Я сказал ему, что все свое масло отвез на рынок", или: "У этого пастора нет совести. От меня-то уж он цыплят не получит". И все-таки нельзя было допустить, чтобы он и его старая мать умерли с голоду по вине прихожан - это принесло бы слишком много радости "той стороне". А другим способом избавиться от своего пастора они не хотели, хотя бы потому, что на поддержание его ими уже были затрачены средства. Сделку, в которую оказались вовлеченными и церковь и общество, скрепили деньги. Профессиональное поведение пастора было безупречным, проповеди - долгими и пылкими; он всегда был готов исполнять свои многочисленные обязанности венчания, крещения, отпевания, - и это был его единственный доход, так как он уже задолжал прихожанам больше, чем ему причиталось по должности. Лояльность его паствы напоминала лояльность членов некоего важного общества, которому угрожает опасность.
Ходили слухи, что в доме пастора царит ужасная нужда. Благополучный вид этого красного кирпичного здания, окруженного лавровыми кустами, никогда не цветущими, был как бы иронией над тем, что происходило внутри. Говорили, что старая мать пастора, которой было восемьдесят лет, совсем не вставала этой зимой с постели, потому что в доме не было угля. Так она и лежала, а ее три птички летали на свободе и пачкали повсюду, так как ни она, ни ее сын никогда не закрывали клетки... Единственной служанке, по-видимому, никогда не платили. Торговцы больше не отпускали пастору товаров, потому что не могли получить за них деньги. Большая часть мебели была продана; пыли накопилось столько, что она заставляла чихать. "Дальше и ехать некуда, понимаете ли!"
С маленькой корзинкой в руке пастор методически собирал продукты для своего стола три раза в неделю, обещая заплатить в понедельник и соблюдая воскресенье как день отдохновения. Казалось, в его сознании постоянно жила вера в скорое повышение курса его акций; в то же время он считал своим священным правом получать поддержку. И было весьма трудно отказывать ему в ней. Почтальон дважды видел его на железнодорожных путях, которые проходили внизу, под самой деревней: "Стоит без шляпы, понимаете ли, как потерянный!" Этот рассказ о пасторе, стоящем на рельсах, производил сильное впечатление на тех добрых людей, которые любят страшные истории. Эти люди говорили: "Я совсем не удивлюсь, если с ним что-нибудь такое стрясется не сегодня-завтра!" Другие, не столь романтически настроенные, качали головами и уверяли, что, пока жива его мать, ничего он над собой не сделает. А некоторые, более набожные, утверждали, что он никогда не пойдет против священного писания и не подаст такого дурного примера.